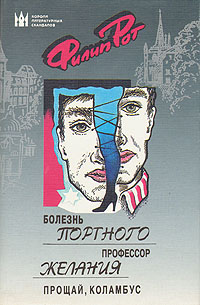Профессор желания 1 страница
3. Укажите механизм действия: 1. байнокса 2. имунофана 3. метотрексата
4. Перечислите показания к назначению: 1. румезина 2. иммуноглобулинов 3. цисплатина 4. винбластина
5. Укажите побочные эффекты: 1. блеомицина 2. цисплатина 6. Назовите: 1. средство для нормализации микробного пейзажа кишечника 2. средство для лечения лимфосаркомы 3. Средство, применяемое при Т-иммунодефицитах
Филип Рот Профессор желания
«Болезнь Портного. Профессор желания. Прощай, Коламбус»: Полина; Вильнюс; 1994; ISBN Короли литературных скандалов Перевод: Ж. Баскакова
Филипп Рот Профессор желания
Кларе Блум
Впервые зависть приходит ко мне в образе замечательного Герберта Братаски, добровольно взявшего на себя обязанности администратора, руководителя оркестра, эстрадного певца, комедийного актера и массовика-затейника в принадлежащем моей семье отеле на горном курорте. Когда он свободен от уроков румбы, которые дает около бассейна, облачившись в эластичные спортивные трусы, он одевается шикарно. Обычно на нем двухцветный, темно-красный с кремовым пиджак и канареечного цвета широченные брюки, ниспадающие на белые с дырочками остроносые туфли. В кармане наготове лежит пластинка жвачки «Блэк Джэк», в то время, как он смакует ту, что находится во рту, степенно, словно какой-то англичашка, жует ее с чавкающим звуком, который моя мама презрительно именует «тявканием». Его костюм дополняют модный узкий ремень из крокодиловой кожи и часы на золотой цепочке. Одна его нога беспрестанно подрыгивает, отбивая ритм под звуки там-тамов, звучащие словно где-нибудь в Конго, в его голове. Проспект нашего отеля (с четвертого класса я пишу его вместе с владельцем) представляет Герберта как «нашего европейского Кугата, нашего европейского Крупа, соединенных в одном человеке!» В дальнейшем он будет именоваться «вторым Денни Кайе» и, в конце концов, «вторым Тони Мартином»,[1] чтобы каждому стало понятно, что этот парень, весящий не менее шестидесяти четырех килограммов, не какое-нибудь «пустое место», а «Королевский отель Кепешей» – не какой-нибудь захудалый отелишко. Гости нашего отеля в не меньшей степени, чем я, ошеломлены столь откровенной саморекламой Герберта. Едва какой-нибудь новый гость успеет опуститься в плетеное кресло-качалку на веранде, как тут же один из «стареньких», прибывших сюда из раскаленного города всего неделей раньше, поспешит выдать ему информацию об этой достопримечательности нашего отеля. – Вы еще не видели загара этого паренька. Знаете, такой тип кожи, которая никогда не обгорает, а с самого первого дня на солнце покрывается ровным загаром. У этого паренька загорелая кожа прямо с библейских времен. Из-за поврежденной барабанной перепонки «наша визитная карточка», – как любит называть себя Герберт к явному неудовольствию моей матушки, – находится с нами на протяжении всей второй мировой войны. Между креслами-качалками и карточными столиками ведется нескончаемая дискуссия о том, что это – врожденный дефект или членовредительство? Это явный намек на то, что что-то помимо матери-природы оказало услугу Герберту, сделав его неспособным сражаться с Муссолини и Гитлером. Лично я возмущен и оскорблен таким предположением. К тому же, невозможно себе представить, что Герберт берет в руки шляпную иголку или зубочистку – какой-то острый предмет – и добровольно калечит себя для того, чтобы избежать призыва на военную службу. – Я бы не исключал такой возможности, – говорит наш постоялец А……ович. – От такого шустрого малого всего можно ожидать! – Да будет вам, он ничего подобного не делал. Этот паренек настроен ничуть не менее патриотично, чем другие. Я вам скажу, почему он наполовину глухой, и пусть доктор скажет, если я не прав: это от этих барабанов, – возражает наш гость Б……ович. – О, если бы этот парень играл на ударных, – замечает В……ович, – он бы уже играл на сцене с оркестром Рокси. И если этого не происходит, то только потому, я полагаю, что как вы говорите, он из-за этих барабанов плохо слышит. – Тем не менее, – говорит Д……ович, – он не ответил определенно ни «да», ни «нет» на вопрос, сделал ли он что-то умышленно. – Он же шоу-мен, а они любят интриговать. Главное, что он все делает с душой. – Мне кажется, любые шутки на эту тему неуместны. У этой еврейской семьи нет ни минуты свободной. – Ах, оставьте. Парень, который так одевается, что у него есть даже часы с цепочкой; с таким телосложением, над которым он работает и день, и ночь. Плюс эти барабаны! Неужели вы думаете, что он может нанести себе серьезное физическое повреждение только из-за военной ситуации? – Согласен на сто процентов. Джина мне, кстати! – О, вы прямо застали меня врасплох, сукин вы сын. Какого черта я держу здесь этих работников, кто-нибудь может мне сказать? Послушайте, вы знаете, кого вы не найдете? Вы не найдете парня, такого симпатичного, как этот, и такого же потешного. Так выглядеть, быть забавным, так увлекаться барабанами – это, мне кажется, что-то редкое в шоу-бизнесе. – А бассейн? А трамплин для прыжков в воду? Да если бы Билли Роуз увидел, что он тут выделывает, он завтра же бы пригласил его к себе в шоу на воде. – А какой у него голос! – Если бы только он относился к нему серьезно. – Если бы этот парень занимался голосом серьезно, он пел бы теперь в «Метрополитен-опера». – Ради Бога, если бы он пел серьезно, он мог бы стать кантором, без проблем. Он бы разорвал вам сердце. Только представьте себе, как бы он с таким загаром смотрелся в белом талесе. И тут я был обнаружен. У дальнего конца веранды, за работой над моделью «Спитфайра» военно-воздушных сил Великобритании. – Эй, юный Кепеш, иди-ка сюда, маленький соглядатай! На кого ты хочешь быть похожим, когда вырастешь? Слушай сюда. Кончай хоть на минуту перебирать свои листочки. И кто же твой герой, кепале? Я, не задумавшись, выпаливаю: – Герберт. Это вызывает восторг мужской части присутствующих и приводит в уныние женскую. Вот так, леди. А кто, по-вашему, это должен быть? Кто еще наделен таким даром имитировать акцент Кугата, трубный звук шофара или, по моей просьбе, изображать пикирующий на Берхтесгаден истребитель и дрожащего внизу от ужаса Гитлера? Герберт исполняет свои имитации с таким энтузиазмом и виртуозностью, что мой отец иногда заклинает его воздержаться от демонстрации их публике, как бы гениальны они ни были. – Но у меня же отлично получается треск, – протестует Герберт. – Возможно, – отвечает отец, – но это не для всякой публики. – Но я же отрабатывал это месяцами. Послушайте! – О, уволь меня, Братаски, сделай одолжение. Это не совсем то, что приличный утомленный гость хочет услышать в казино после ужина. Можешь ты принять это во внимание, а? Или не можешь? Иногда я не понимаю, где твои мозги. Ты не соображаешь, что это люди, которые соблюдают кошер? Ты не понимаешь, что здесь женщины и дети? Друг мой, все очень просто: шофар для больших праздников, остальные штучки – для туалета. Точка, Герберт, закончили. Теперь Герберт исполняет свой репертуар только для меня, своего, охваченного благоговейным страхом, поклонника. Он трубит в рог и играет зарю, что запрещено ему делать для публики моим отцом, живущим по законам Моисея. Оказывается, он может не только воспроизвести всю гамму звуков – от нежного весеннего шелеста до грохота двадцати одного ружейного залпа, посредством которого человечество избавляется от своих газов – но может также изобразить понос. – Нет, – спешит сообщить он мне, – не какого-нибудь несчастного шлемазла в муках (это он прекрасно изображал в школе), а всю вагнеровскую мелодию фекального Sturm und Drang.[2] – Я бы мог состоять в общине Рипли,[3] – сказал он мне. – Ты ведь читал Рипли, конечно, – тогда можешь судить сам. Я узнаю звук расстегиваемой на брюках молнии. Потом слышу, как завидной мощности струя шпарит вовсю по эмалированной поверхности. А вот звук спускаемой воды, за которым следует бульканье, напоминающее звук полоскаемого горла и икоты. Это начинает просачиваться вода через неподдающуюся пробку. И все эти звуки истекают из горла Герберта. Я готов благоговейно припасть к его ногам. – А послушай это! Это звук трущих друг друга с мылом – по-видимому во рту у Герберта – рук.
– Всю зиму я специально ходил в общественный туалет, просто сидел там и слушал. – Ты это делал? – Конечно. Я прислушиваюсь даже к самому себе каждый раз, как иду в туалет. – Да? – А для твоего старика это все грязь! «Точка!» – произносит Герберт голосом ну точно моего старика! И все это он говорит всерьез. Как может Герберт, удивляюсь я, который столько знает, с такой страстью интересоваться звуками в туалете? И почему филистимлян,[4] с полным отсутствием музыкального слуха, вроде моего отца, совершенно это не волнует? Описанные события происходят летом, когда я недолгое время нахожусь под колдовским обаянием этого барабанщика-искусителя. Потом наступает Йом Кипур, и Братаски уезжает. И какая мне польза от всего того, чему он меня научил? Все наши – овичи, – берги и – штейны в одночасье разъезжаются по местам, не менее далеким для меня, чем Вавилон – в висячие сады, носящие название Пэлэм, Куинз, Хакенсак. Аборигены засуетились, принялись возделывать землю, доить коров, открывать магазинчики и работать, не покладая рук, во славу округа и штата. Я – один из двух еврейских детей в нашем классе из двадцати пяти учеников. Понимание законов и психологии общества (свойственное мне не меньше, чем восприимчивость ко всему возбуждающему, яркому, эксцентричному), приводит меня к осознанию того, что, как ни велик соблазн показать этим провинциалам несколько остроумных штучек Герберта, ничто не поможет мне выделиться среди школьных товарищей, кроме оценок. Все остальное, как я понимаю, и, притом, безо всякой подсказки со стороны отца, никуда меня не приведет. А никуда – не совсем то место, куда я хотел бы прийти. Поэтому, как пай-мальчик, я «плыву» по волнам снежных сугробов почти три километра вниз по нашей горной дороге, к школе, где провожу зимы в попытке выделиться. И это в то время, как далеко на юге, в величайшем из городов, где дозволено все, Герберт (в течение недели он помогает дяде продавать линолеум, а по уик-эндам играет и латиноамериканском джазе) работает над своими последними клозетными впечатлениями. Он пишет о своих достижениях в письме, которое я прячу в застегивающийся задний карман бриджей и перечитываю при всяком удобном случае. Кажется, не считая поздравительных открыток с днем рождения, это единственное почтовое отправление, которое я когда-нибудь получил. Конечно, я до смерти боюсь, что если провалюсь под лед, катаясь на коньках, или сломаю себе шею, катаясь на салазках, кто-нибудь из моих школьных товарищей найдет конверт с печатью «Бруклин, Н.Й.», и все они, окружив мой труп, сунут в это письмо свои носы. Мои родители будут навеки опозорены. «Венгерский королевский отель» потеряет свое доброе имя и обанкротится. Наверное, меня не разрешат похоронить внутри кладбищенской ограды со всеми другими евреями. И все из-за того, что Герберт осмелился написать на листке бумаги и потом отправить по почте девятилетнему ребенку, которого все вокруг (и он в том числе) считают непорочным. Неужели Братаски не понимает, как люди чувствительны к таким вещам? Он что, не знает, что одним только фактом посылки такого письма уже, вероятно, нарушает закон и превращает меня в сообщника? Но если это так, почему я упорно ношу этот обвинительный документ целый день с собой? Он лежит у меня в кармане, даже когда я участвую в еженедельном конкурсе на лучшее правописание, сражаясь за первое место с другой финалисткой, кудрявой единоверкой, будущей концертной пианисткой, блестящей Маделейн Левин. Письмо лежит в кармане моей пижамы ночью, дожидаясь того момента, когда я, укрытый с головой простыней, прочту его, посветив себе фонариком, а потом усну, прижимая письмо к сердцу. «Сейчас я приступил к изучению звука, который возникает, когда тянешь туалетную бумагу с ролика. Это даст мне полный шмеер, малыш. Герберт Л. Братаски, единственный в мире, может теперь имитировать звук вытекающей воды, звуки при оправлении, поносе – и даже отрыве туалетной бумаги. Останется одолеть еще только одну высоту – звук при вытирании!» К тому времени, как мне исполняется восемнадцать и я становлюсь первокурсником сиракузского университета, я почти сравниваюсь в таланте имитации с моим наставником. С той разницей, что вместо имитаций а-ля Братаски, я пародирую самого Братаски, гостей, прислугу. Я изображаю нашего метрдотеля-румына, одетого в смокинг, который раболепствует в столовой («Сюда, пожалуйста, господин Корнфельд… Мадам, еще кусочек?), а потом, вернувшись на кухню, самыми непристойными словами распекает на идише нализавшегося шеф-повара. Я пародирую нашего «язычника» Джорджа, неуклюжего подручного, который застенчиво наблюдает за тем, как женщины разучивают румбу у бассейна; пародирую Здоровую Крошку – стареющего мускулистого спасателя (он по совместительству следит еще и за парком), который пытается обхаживать какую-нибудь домашнюю хозяйку, находящуюся на отдыхе, а, если представится возможность, то и ее достигшую брачного возраста дочь, подставившую солнышку свой непривычный к загару носик. Я даже изображаю диалог (траги-комически-исторически-пасторальный) моих усталых родителей, раздевающихся перед тем, как лечь спать в вечер после закрытия курортного сезона. Меня просто изумляет, что самые заурядные события моей прошлой жизни кто-то находит такими забавными. Меня удивило, что, оказывается, не все с удовольствием вспоминают то время, когда формируется характер, а вокруг так много личностей с пылким воображением, к которым я отношу и себя. С первых же семестров я был приглашен играть главные роли в пьесах Жироду, Софокла и Конгрива. Я был занят и в музыкальной комедии, пел и даже танцевал, в меру своих способностей. Кажется, не было ничего такого, чего бы я не мог или не хотел делать на сцене. В начале второго курса приезжают мои родители, чтобы посмотреть на меня в роли Тиресия, который в моей интерпретации выглядит старше их двоих вместе взятых. А потом, на вечеринке, устроенной в честь премьеры, они смущенно следят за тем, как, по просьбе участников спектакля, я развлекаю присутствующих, изображая царственного раввина с безупречной дикцией, который ежегодно прибывает, чтобы по большим праздникам провести службу в нашем отеле. На следующее утро я устроил родителям экскурсию по территории университета. По дороге в библиотеку несколько студентов сделали мне комплимент по поводу вчерашнего ошеломляющего выступления в роли старца. Это произвело впечатление на мою матушку, которая, однако, не преминула с присущей ей иронией заметить, что не так давно ей приходилось менять и стирать пеленки этого выдающегося артиста. – Тебя теперь все знают. Ты стал знаменитостью, – говорит она. – Так что, медицина теперь побоку? – пытаясь скрыть свое разочарование, в который раз спрашивает отец. – Я хочу играть, – отвечаю я ему на это в десятый раз. Говоря ему это в десятый раз, я начинаю верить в это и сам. До этого дня мое актерство казалось мне самым бесполезным, преходящим и жалким стремлением к самовозвеличению. Я настолько унижен был тем, что позволил увидеть всем глубину своего тщеславия, в котором раньше не решался признаться самому себе, что думал даже перейти в другой колледж, где мог бы начать все сначала. Уйти туда, где я был бы незапятнан в глазах остальных эгоманиакальным стремлением быть в центре всеобщего внимания и срывать аплодисменты. Проходят месяцы, во время которых я каждую неделю принимаю новое мудрое решение. Я пойду в медицинский колледж и стану хирургом, хотя как психиатр я, наверное, смог бы принести больше пользы человечеству. Я стану адвокатом… дипломатом… а почему бы не раввином, усердным, созерцающим, глубоким… Я погружаюсь в чтение, читаю о хасидах. Во время каникул, приехав домой, расспрашиваю родителей о семейной истории и корнях. Но, поскольку с того времени, как мои бабушка и дедушка эмигрировали в Америку, прошло более пятидесяти лет, их уже не было на свете, а их дети не проявляли ни малейшего интереса к нашему европейскому происхождению, я прекращаю расследование и одновременно расстаюсь с идеей раввинства. Хотя все еще мечтаю заняться чем-то важным и значительным. Я все еще помню, хотя и противен сам себе из-за этого, мою «дряхлость» в «Царе Эдипе», злое обаяние в «Финианской радуге» – всю эту утрированную игру! Чересчур фривольную и маниакально-показушную. В двадцать лет пора бы прекратить изображать других и стать Самим Собой, или хотя бы начать изображать себя таким, каким я себя вижу в будущем. Я – новый я – оказывается, здравомыслящий, ищущий одиночества, довольно утонченный молодой человек, увлекающийся европейской литературой и языками. Мои друзья-актеры потрясены тем, что я оставляю сцену и поселяюсь в меблированной комнате, где моими друзьями становятся выбранные мной писатели – «архитекторы моего внутреннего мира». Как сказал один из моих соперников по сцене, «Дэвид оставил этот мир во имя духовности». Вообще-то мне свойственно, конечно, все драматизировать, но это прежде всего потому, что я максималист – молодой максималист – и не знаю иного пути сбросить кожу, кроме как вонзить скальпель и разодрать себя вдоль и поперек. Или – или. Только в двадцать лет я разрешаю все противоречия и преодолеваю все сомнения. Оставшиеся годы учебы в университете я провожу так, как зимы в моем детстве, когда отель был закрыт, мели нескончаемые метели, а я сотнями читал книги в нашей библиотеке. В течение всех этих месяцев «арктической зимы» не прекращались ремонтно-строительные работы. Я лишу, как звенят цепи на колесах машин, движущихся по очищенным снегоочистителем дорогам, слышу звук сбрасываемых на снег с пикапа досок и незатейливые вдохновляющие звуки молотка и пилы. Я бросаю взгляд поверх наметенного на подоконнике сугроба и вижу Джорджа и Крошку, которые едут вниз по дороге к крытому бассейну приводить в порядок кабинки для переодевания. Я машу рукой, Джордж трубит в горн… Я воображаю, что мы, Кепеши, сейчас три зверя, находящихся в уютной безопасной зимней спячке – Мама, Папа и Ребенок – надежно укрытые в семейном Раю. Зимой нам заменяют гостей их письма, которые громко и не без живости читает вслух за обеденным столом мой отец. Он умеет преподнести себя в лучшем свете, в соответствии со своими понятиями. Он считает, что его долг помочь людям хорошо провести время и, невзирая на их частую невоспитанность, относиться к ним по-человечески. Тем не менее, в «мертвый сезон» баланс сил несколько смещается. Теперь постоянные клиенты сбавляют свое высокомерие. Как говорит моя мама, «каждый баллагула со своей женой (а все эти жены просто штанк), оставляя запись в регистрационной книге, изображает, что они Герцог и Герцогиня Виндзорские. «Они начинают вести себя с моим отцом так, как будто он тоже – ценный представитель человеческого рода, а не постоянная мишень для выражения их неудовольствия, человек, который должен терпеть их смехотворные королевские замашки. В разгар снегопадов иногда приходит по четыре-пять писем с любопытной информацией: у кого-то на Джексон-хайтс помолвка кто-то переезжает в Майами по состоянию здоровья; кто-то открывает еще один магазин в Уайт-плейнз… О, как отец любит узнавать обо всем хорошем и плохом, что происходит с ними. Для него это доказательство того, что «Королевский венгерский отель» значит что-то для людей. И не только это. Это доказательство всего. Прочитав письма, он освобождает место на конце стола, рядом с тарелкой с мамиными рогаликами, и своим размашистым почерком пишет ответы. Я исправляю его грамматические ошибки и расставляю знаки препинания в дополнительном абзаце, в котором он пускается в философствование, воспоминания, пророчества, приводя практические соображения, политический анализ и выражая соболезнования. Потом мама печатает каждое письмо на фирменной бумаге «Королевского венгерского отеля» под надписью, гласящей: «Старое доброе гостеприимство среди красивого горного ландшафта. Строгое соблюдение диеты. Владельцы Эби и Белла Кепеш». И добавляет постскриптум, в котором подтверждает бронирование на будущее лето и просит прислать небольшой задаток. До знакомства с моим отцом, которое произошло в этих самых горах, где она проводила свой отпуск (ему был тогда двадцать один год; и он не имел профессии, работал летом поваром, помогая готовить незамысловатые блюда), она работала в течение трех лет после окончания школы секретарем в юридической конторе. Легенда гласит, что она была дотошной, добросовестной молодой женщиной поразительных способностей, посвятившей себя исключительно служению нанявшим ее важным адвокатам с Уолл-стрит, мужчинам, о моральных и физических достоинствах которых она будет с благоговением говорить до самой своей смерти. Ее мистер Кларк, внук основателя фирмы, продолжал присылать ей поздравительные телеграммы по случаю дня рождения даже после того, как вышел на пенсию и уехал в Аризону. Каждый год, зажав его телеграмму в руке, она мечтательно говорит моему лысеющему отцу и мне, маленькому: «О, он был таким высоким и красивым, с таким чувством собственного достоинства! Я до сих пор помню, как он стоял у своего стола, когда я пришла к нему на собеседование перед поступлением на работу. Я никогда не забуду его осанку». Он оказался, однако, совершенно заурядным человеком, плотным, волосатым, с грудью колесом и бицепсами, как у Папайе. Увидев ее среди поющих под аккомпанемент пианино отдыхающих, приехавших из города, он сказал самому себе: «Я должен жениться на этой девушке». Она была такой темноглазой и темноволосой, с такими крепкими ногами и хорошо развитой грудью, что поначалу он принял ее за испанку. Ее постоянное стремление к самосовершенствованию, благодаря которому она завоевала симпатии мистера Кларка-младшего, оказалось еще более привлекательным для другого молодого человека, предприимчивого, но не отличавшегося властным характером, бывшего по своей натуре ведомым. К несчастью, после ее замужества, качества, сделавшие ее чистым сокровищем для строгих боссов, которые не были ее единоверцами, обернулись причиной того, что к концу каждого летнего сезона она оказывалась на грани нервного истощения. Поскольку даже в маленьком отеле, как наш, которым владеет одна семья, всегда хватает жалоб, требующих разбирательств; служащих, за которыми надо приглядывать; простыней, которые надо пересчитывать; блюд, которые надо попробовать; счетов, которые надо проверить… и т. д. и т. п. И, увы, она никогда не может всецело положиться на людей, которым положено всем этим заниматься, потому что все делается не так, как надо. Только зимой, когда мы с отцом берем на себя малопривлекательные роли à la père and fils Clark,[5] а она сидит, выпрямившись, за своим большим черным «бесшумным» Рэнмингтоном, печатая точный дубликат пространных ответов отца на письма постояльцев, я пытаюсь взглянуть глазами Кларка на скромную жизнерадостную маленькую сеньориту, в которую он влюбился с первого взгляда. Иногда после ужина она предлагает мне, школьнику, представить, что я какое-нибудь должностное лицо, и продиктовать ей официальное письмо, чтобы она могла продемонстрировать мне, насколько она сильна в стенографии. «Ты владелец судоходной компании, – говорит она, хотя на самом деле мне только что разрешили купить первый в моей жизни перочинный ножик, – диктуй». Она довольно регулярно напоминает мне о той пропасти, которая отделяет секретаря обычного офиса от секретаря юридической фирмы, которым работала она. Отец с гордостью подтверждает, что она на самом деле была самой безупречной секретаршей, когда-либо работавшей в этой фирме – сам мистер Кларк написал ему об этом в поздравительном письме по случаю их помолвки. Потом приходит зима, когда я, очевидно, достигаю нужного возраста, и она учит меня печатать. Никто и никогда с тех пор не учил меня ничему столь ненавязчиво и, в то же время, настойчиво. Но это зимой, в обстановке семейного уединения. Летом же, находясь в постоянном окружении людей, она совсем другая. Ее темные глаза неистово мечут молнии, она визжит и лает, как собака, судьба которой зависит от умения загнать на базар отару овец ее хозяина. Из-за одной-единственной отбившейся овцы она мчится во весь опор по неровному склону; блеяние с другой стороны – и она мчится в противоположном направлении. Все это продолжается до главных праздников, но и потом не прекращается. Ибо, стоит уехать последнему гостю, как должна начаться инвентаризация. Должна! Сию же минуту! Что сломали, разорвали, измазали, отломили, разбили, согнули, раскололи, стянули; что надо починить, заменить, заново покрасить; что совершенно невозможно восстановить и придется выбросить. Этой простой маленькой аккуратной женщине, которая больше всего в жизни хочет восстановить образцовый порядок, приходится ходить из комнаты в комнату со своим гроссбухом, занося в него размеры ущерба, нанесенного нашей горной цитадели ордами вандалов, которых мой отец защищает, несмотря на ее страстные протесты, считая, что им просто не чуждо все человеческое. Подобно тому, как зимы в горах Катскилла трансформируют каждого из нас в более приятного, более здравомыслящего, простодушного и сентиментального представителя семейства Кепешей, так и уединение в моей комнате в Сиракузах помогает мне, к счастью, избавиться от легкомыслия и желания порисоваться. Не то, чтобы из-за всего этого чтения, подчеркивания, записи лекций я совсем перестал быть самим собой. Афоризм, приписываемый не менее известному эгоцентристу, лорду Байрону, потрясает меня своей ласкающей слух мудростью и всего четырьмя словами разрешает то, что начинало уже казаться неразрешимой моральной дилеммой. По определенным стратегическим соображениям я дерзко цитирую это вслух своим сокурсницам, которые возражают мне, что это никак нельзя отнести ко мне. «Прилежный днем, – начинаю я, – беспутен ночью». Слово «беспутен» я решаю заменить более подходящим словом «страстен». Я все-таки живу не где-нибудь в венецианском палаццо, а на севере штата Нью-Йорк, в университетском городке, со своим «лексиконом» и все более укореняющейся репутацией человека, «томящегося одиночеством». Читая Макиавелли, я наткнулся на одну фразу. Эврика! Я плачу, потому что это еще одно авторитетное мнение в пользу моих высоких оценок и основных страстей. «Повеса среди ученых – ученый среди повес». Великолепно! Я прикрепляю это кнопками к доске объявлений вместе со строкой из Байрона и прямо над списком девчонок, которых я решил обольстить. Это слово пришло ко мне не из порнографических или популярных дешевых журнальчиков, а в результате мучительного чтения «Kierkegaard's Either-Or».[6] У меня только один друг мужского пола, с кем я вижусь регулярно. Скромный студент, изучающий философию. Он и есть мой наставник по «Kierkegaard». Зовут его Луис Елинек. Луис, как и я, предпочитает снимать комнату в городе и частном доме, а не жить в общежитии со студентами, чьи понятия о товариществе он тоже находит достойными презрения. В период обучения в университете он подрабатывает продажей гамбургеров (лучше это, чем принимать деньги от родителей, которых он презирает). Он насквозь пропах этими гамбургерами. Стоит мне дотронуться до него, случайно или находясь во власти бурных эмоций, чисто по-товарищески, он отскакивает в сторону, словно боится запачкать свою вонючую одежду.
|