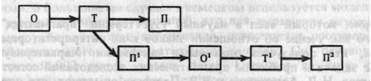Ч. Моррис, который ввел в научный узус термин "прагматика",
понимал его как учение об отношении знаков к их интерпретаторам, т.е. к
тем, кто пользуется знаковыми системами. Характеризуя конкретные
задачи и проблемы прагматических исследований естественных языков,
Н.Д. Арутюнова и Е.В. Падучева отмечают, что они, постепенно
расширяясь, обнаруживают тенденцию к стиранию границ между
лингвистикой и смежными дисциплинами (психологией, социологией и
этнографией), с одной стороны, и соседствующими разделами
лингвистики (семантикой, риторикой, стилистикой) — с другой".
Прагматика отвечает синтетическому подходу к языку [Арутюнова,
Падучева, 1985, 4].
Совокупность таких факторов, как связь значения с внеязыковой
действительностью, речевой контекст, эксплицитный и имплицитный,
коммуникативная установка, связывающая высказывание с меняющимися
участниками коммуникации — субъектом речи и ее получателями, фондом
их знаний и мнений, ситуацией (местом и временем), в которой
осуществляется речевой акт, образует мозаику широко понимаемого
контекста, который как раз и открывает вход в прагматику смежных
дисциплин и обеспечивает ей синтезирующую миссию [там же, 7].
В гл. III, посвященной проблемам эквивалентности, адекватности и
переводимости, отмечалось, что требование коммуникативно-
прагматической эквивалентности является главнейшим из требований,
предъявляемых к переводу, ибо оно предусматривает передачу
коммуникативного эффекта исходного текста и поэтому предполагает
выделение того его аспекта, который является ведущим в условиях
данного коммуникативного акта. Отсюда был сделан вывод об иерархии
уровней эквивалентности, согласно которому прагматический уровень,
включающий такие важные для перевода элементы, как коммуникативная
интенция, коммуникативный эффект и установка на адресата, управляет
другими уровнями, является неотъемлемой частью эквивалентности вообще
и наслаивается на другие ее уровни.
Прагматических отношений, возникающих в процессе перевода, мы уже
касались выше — в разделах "Теория перевода" и социолингвистика" (гл.
I), "Языковые и внеязыковые аспекты перевода (гл. II) и в связи с
вопросом о прагматической эквивалентности (гл. III). Весь этот материал
представляет собой как бы введение в прагматику перевода. В настоящей
главе в центре внимания находятся побудительные причины прагматических
трансформаций, их типология и методы.
Каковы же прагматические отношения, характеризующие перевод как
процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации? Для того чтобы
ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть основные звенья
процесса перевода, в которых реализуются различные типы отношений
между знаками и коммуникантами. Прежде всего,
10. Зак. 311 145
характерной особенностью этих звеньев коммуникативной цепи является их
двухъярусный характер: акты первичной и вторичной коммуникации
образуют два яруса: вторичная коммуникация наслаивается на
первичную (схема 7).
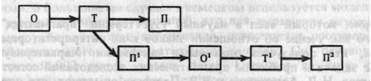
Схема 7
В звеньях этой коммуникативной схемы возникают различные типы
прагматических отношений, т.е. отношений между знаковыми
совокупностями (текстами) или их элементами, с одной стороны, и
коммуникантами — с другой. Особенностью коммуникации является то,
что отношения, возникающие в определенных звеньях первичной
коммуникации, воспроизводятся (в соответственно модифицированном
виде) во вторичной коммуникации. Так, например, звено О—Т
(отправитель исходного текста — исходный текст) характеризуется
отношением, которое можно назвать коммуникативной интенцией
отправителя или прагматической мотивацией текста. Это отношение
воссоздается в цепи вторичной коммуникации, где в звене О1—Т1 его
воспроизводит переводчик, создающий новый текст — аналог
исходного. Однако поскольку коммуникативная ситуация, в которой
создается этот текст, не является идентичной исходной коммуникативной
ситуации, не может быть и полного тождества между исходным
прагматическим отношением О—Т и вторичным прагматическим
отношением О1—Т1. Различие между этими отношениями определяется
хотя бы тем, что отправители разных текстов (исходного и конечного) не
могут, создавая их, не видеть за ними разных получателей.
Выше, в связи с проблемой переводческой эквивалентности, нами был
поставлен вопрос о важной роли, которая принадлежит в этой связи
функциональной типологии текстов (ср., например, основанную на
известной схеме К. Бюлера типологию К. Раис, функциональную
типологию Р. Якобсона). Думается, что для анализа коммуникативной
интенции, лежащей в основе переводимого текста, может быть
использована и восходящая к Дж. Остину [Austin, 1962] и Дж. Сёрлю
[Searle, 1969] теория речевых актов, изучающая различные типы речевых
высказываний в связи с той конкретной ролью, которую они играют в
процессе коммуникации.
Следующим звеном коммуникативной цепочки, играющим важную роль
в переводе, является звено Т—П (текст — получатель). О—Т и Т—П
представляют собой тесно взаимосвязанные звенья. По сути дела,
прагматические отношения, характеризующие их, — это разные стороны
одного и того же явления — коммуникативная интенция и
коммуникативный эффект, согласование которых составляет основу
переводческой эквивалентности. Здесь мы также обнаруживаем
функциональное сходство между соответствующими звеньями первичной
и вторичной коммуникации (ТП в первичной коммуникативной цепи
146
и Т1П2 — во вторичной). Коммуникативный эффект представляет собой
результирующую многочисленных сил воздействия текста,
соответствующих его функционально-целевым характеристикам. Однако
подобно тому как исходная коммуникативная интенция модифицируется в
процессе вторичной коммуникации, коммуникативный эффект варьируется
в конечном звене процесса двуязычной коммуникации в соответствии с
характеристиками конечного получателя.
Наконец, остаются еще два звена коммуникативной цепи,
характеризующиеся особым типом прагматических отношений, — это Т—
П (исходный текст — переводчик-получатель) и О1—Т1 (переводчик-
отправитель — конечный текст). Выше отмечалось, что полное слияние
личности переводчика с личностью автора возможно лишь в идеале.
Более того, лишь в идеальной схеме возможен переводчик, не только
полностью "вошедший в образ" автора, но и воспринимающий исходный
текст с позиций носителя исходного языка и исходной культуры. Таким
образом, и здесь приравнивание друг к другу соответствующих звеньев
первичной и вторичной коммуникативных цепей носит в известной мере
условный характер.