Культ предков на Корсике
Особую страничку в каменной летописи Корсики представляют так называемые менгиры. Ученые продолжают спорить об их культурном предназначении. Одни считают, что менгиры, выстроенные в ряд строго с севера на юг и обращенные лицами всегда на восток, т.е. к солнцу, были, видимо, связаны с культом умерших предков. Некоторые менгиры не изображали людей, а скорее всего были изображениями фаллического культа. Кстати говоря, слово «менгир» произошло от бретонского «мен» — камень, и «хир» — живность. На этих продолговатых каменных столбах были высечены условно лица, иногда — части тела, одежды, оружия. Поэтому наиболее распространена версия о том, что менгиры создавались как место пристанища для блуждающих в пространстве душ умерших предков. Другая гипотеза о том, что это были примитивные идолы, — не во всем подтверждается. Так что загадка скульптур древней Корсики все еще будоражит умы ученых. Вместе с менгирами, особенно если речь заходит о культе мертвых, достопримечательностью Корсики являются и дольмены — циклопические каменные сооружения. Это гробницы, сложенные из больших каменных глыб, поставленных на ребра вертикально и покрытые одной или несколькими плитами сверху — наподобие крышки стола. Вероятно, это предок курганов, известных нам по степям России и Украины. Многие дольмены тоже сверху засыпали землей, но, за редким исключением, насыпи осели и не сохранились до наших дней. И менгиры, и дольмены вызывали до Второй мировой войны у местного населения какой-то генетический ужас. Их не только боялись трогать, но даже старались не подходить близко к тому месту, где витали души предков. Отношение к предкам со временем приобрело весьма своеобразную форму. Во всяком случае только на Корсике можно увидеть города мертвых, где каждому умершему строят почти настоящий дом и потом без всяких слез ходят к нему в гости, как к живому. На улицах этого города вы не увидите мрачных или плачущих людей. Здесь Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточно-славянских обрядов. СПб., 1993. миров: живые должны оставаться среди живых, а мертвые — среди мертвых. Так, покойнику закрывают глаза (обычно медяками), объясняя это опасностью его взгляда для живых людей: закрытие глаз одновременно означало прекращение его контакта с миром людей. Покрывание умершего полотном продолжало ритуал его отгораживания от посюстороннего мира. Следующая операция — омовение тела покойника, после которого человек лишался последних признаков принадлежности живым. Этнографы, исследующие славянский погребальный обряд, считают, что физическая чистота («вымы-тость») является устойчивым признаком смерти. Отсюда, вероятно, специфическое отношение к мытью тела, восприятие этой процедуры не столько в гигиеническом, сколько в ритуальном плане. После омовения и обряжения умершего переносят на лавку у стены, ногами к выходу либо к образам. Мужчин клали справа от выхода, а женщин — слева. Согласно поверьям, в могилу колдуна надо вбить осиновый кол, а с помощью отрезанной руки мертвеца можно находить клады и воровать, не боясь быть пойманным. Покойника облачали в новую, неношеную одежду, не соприкасавшуюся с живым телом. Если умершему одежда шилась, то с соблюдением особых приемов: без узлов, «на живую нитку», иголку держали «от себя» и даже левой рукой, иначе «он будет по ночам приходить и уводить с собой людей, у которых так же сшита одежда». Одежда застегивалась наоборот: справа налево у мужчин и слева направо у женщин. Обычай требовал связывать мертвецу руки и ноги. Гроб никогда тщательно не обтесывался, его обтеска делалась нарочито грубо. Саван шился «на живую нитку». Лапти надевались недоплетенными. Хлеб на поминках должен быть недопеченным. В гроб клали недоконченную умершим работу (недовязанные чулки, недоплетенные лапти) в уверенности, что работа будет закончена на том свете. В Закарпатье около покойника, согласно обычаю, старики играли в карты, дрались и ругались. В Карелии был распространен обы- своя атмосфера и своя жизнь. По улицам частенько проезжают машины, бродят люди, встречаются, рассказывают умершим новости. Живые приходят к мертвым как к своим еще существующим друзьям. У каждого умершего в этом городе свой отдельный, иногда семейный, дом. Считается, что человек просто переселяется в другой дом, в другой город и живет там уже по другим законам, а его живые родственники ходят к нему в гости. Для корсиканцев подобное — не условность. Они рады навестить родителей и друзей. При этом иногда даже разговаривают с ними. Первого октября, когда в Европе и Америке бушует праздник всех святых, на самом деле больше похожий на праздник нечистой силы, на Корсике происходит все с точностью до наоборот: здесь празднуется день мертвых. Но под мрачным названием скрывается красивый обычай. В этот день все приносят своим родственникам и друзьям огромное количество цветов — самых разных. Каждый лучше знает, какие цветы больше нравятся их родным и близким в городе мертвых. Кому-то несут охапки ромашек или роз, кому-то — одну хризантему. На Корсике живые и мертвые существуют в удивительной гармонии: кварталы города мертвых
подступают к кварталам города живых. Во время Второй мировой войны, когда ночами бомбили корсиканские города, мертвые как бы взяли на себя защиту живых. Летчики принимали ночью кладбища, освещенные лампадами, за города и бомбили их вместо настоящих целей. Находясь в городе мертвых, непременно вспоминаешь не совсем веселый афоризм: наша земля — планета мертвых, а мы на ней — только временные. G0 чай «веселить покойника». В других местностях присутствующие (обычно старики) проводили ночь в беседах о покойном, рассказывании сказок. Вслед покойнику, пока его не вынесут со двора, бросали зерно для того, чтобы закрыть ему обратную дорогу. В Виленской губернии обсыпание покойника зерном объясняли тем, что в противном случае он унесет с собой больше хлебного плодородия, чем ему полагается, а в Витебской — что покойник в последний час должен убедиться, что с ним делятся хлебом, иначе он будет возвращаться за своей долей. Перемещение умершего из этого в тот мир является центральным звеном
в структуре похоронного ритуала. Реальная дорога от дома до кладбища отчасти символизировала мифологический путь в иной мир. После выноса покойника из дома оттуда должно быть удалено все то, что затронуто смертью и не подлежит очищению. Родных умершего три раза кропят водой, они заглядывают в печь, выкрикивая имя покойника в печную трубу, для того чтобы «не встал». Путь до кладбища сопровождается запретами останавливаться («иначе в деревне будет покойник») и оглядываться. Дорога в мир мертвых не должна совпадать с путями живых, поэтому гроб выносили не в двери, а в окно (варианты: через скотный двор, через забор или разобранную стену). На кладбище шли окольным путем, а возвращались «на-прямки». У околицы деревни родственники покойника подают милостыню провожающим.
По дороге на кладбище первому встречному, который считался путником из иного мира и одновременно служил счастливой приметой, как и нищим, оказывалось подаяние — обязательно через фоб. Это могли быть кусок хлеба, нитки или холст («чтобы на том свете было во что одеть голую душу»). Гроб опускают в могилу на веревках, которые затем оставляют на кладбище, повесив на деревья. Обычай бросать в могилу мелкие монеты, пояса, платки (в том числе «слезные платки») интерпретируется этнографами как выкуп места. У белорусов и украинцев священник «печатал могилу»: делал на могиле крест лопатой и сыпал крестообразно землю на гроб. Считалось, что только такое «запечатывание» гарантирует невозможность выхода покойника из могилы. Могила не считалась местом окончательного пребывания покойника. Только в обряде путь умершего заканчивался на кладбище. В народных по- верьях покойник проходил лишь часть пути, так как ему предстоял еще путь на тот свет. В заупокойной мифологии на кладбище заканчивается лишь «видимая» часть пути. Могила — вход или место, где возможен контакт между живыми и мертвыми. Дальнейший путь покойника от могилы до того света мыслился как переход в новое состояние, позволяющее ему не просто поддерживать связи с близкими ему живыми людьми, но и покровительствовать им. Умерший родитель, приобретший отныне новый статус предка, по верованиям белорусов, принимает живейшее участие в судьбах потомка: в его делах, жизни, даже в малейших мелочах его хозяйства. Если у того пропал топор или околела скотина, значит он под пьяную руку оскорбил родителя. Народные поверья, связанные с культом предка, основывались на так называемой традиции кругового жизненного цикла, согласно которой Другая особенность поминальной трапезы — участие в ней умершего. Для него прибор ставится под образами, на хозяйское место. Для трапезы приготавливают особые блюда (это прежде всего кутья и кисель), а ее порядок регулируется специальными правилами поведения. Поминальная пища — пища мертвых. Правила обращения с ней отличаются от обычных: хлеб не режут, а ломают; мясо едят руками; вместо «Кушайте!» на поминках говорят: «Питайтесь!». Участники поминок не только угощаются, но и угощают умершего: для него кладут на край стола первую ложку (или первые три) каждого блюда и отливают часть напитка. Общая направленность поминальной обрядности противоположна погребальной. Если в похоронах основные усилия направлены на удаление покойника из мира живых, то в поминальных обрядах мертвые приглашаются к живым: открываются ворота на кладбище, двери дома; их встречают, угощают и т.п. Цель последних — упорядочить отношения между своим и чужим мирами и далее — установить над ними контроль. «Приглашенное» присутствие покойника на поминках отличается от его «неприглашенных» визитов впоследствии. Одна из основных причин его «хождения» — тоска живых (отсюда запрет на тоску). Поминовение усопших происходит не только вдень похорон, но и несколько раз после того. При этом различают две категории поминок: частные и календарные. Частные поминки (на 3-й, 9-й и 40-й день) входят в структуру погребального обряда, расширяют его временные рамки. Календарные поминовения (Дмитровская суббота, Святки, Троица и др.) связаны не с индивидуальной смертью, а с категорией предков вообще. С их помощью умерший переводится в разряд предков. Для того чтобы стать предком, умерший должен не приобрести новые качества, а утратить прежние: включаясь в вечный круговорот, умершие теряли имя, возраст, индивидуальность. В этом отношении предки сближаются с новорожденными: первые теряют индивидуальность, вторым еще только предстоит ее обрести. Календарный и жизненный циклы совмещаются и переходят друг в друга. В «космологическом» сценарии похоронного обряда славян, описанного К.А. Байбуриным, важное значение имело то обстоятельство, что умершего помещали в святом (красном) углу, в центре дома, где жизнь и смерть максимально сближаются и переходят друг в друга (такова же роль святого угла как начальной и конечной точки перемещений во всех обрядах жизненного цикла, как места жертвоприношения, т.е. смерти, необходимой для продолжения жизни). Происходит символическое сближение дома и гроба. С ним связаны поверья, согласно которым только смерть освящает новый дом, а также сведения о древнейших захоронениях в ритуально отмеченных частях дома — святом углу, подполье, подпорожье. Если изготовление гроба уподоблялось строительству дома, то переложение покойника в гроб (и далее — в могилу) — новоселью. При «переселении в новый дом» связанные руки и ноги развязывают. Тем самым умерший как бы вновь получает возможность ходить и действовать, но уже на том свете.
|


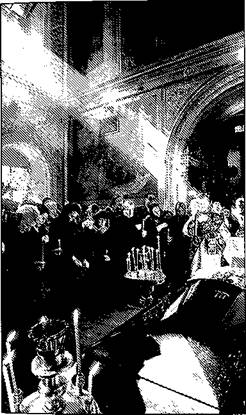
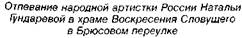
 умерший возрождается в новорожденном и совершает регулярные, хотя и кратковременные, посещения живых людей. Для того чтобы умерший не вернулся, надо после возвращения с кладбища вымыть все в доме, открыть в избе печной заслон, заглянуть за печку. Заглядывание в печь или за печь делается для того, чтобы «не бояться умершего». Печь воспринималась как своеобразный «канал связи» с иным миром. После умывания (смывание следов контакта с миром мертвых) приступают к поминальной трапезе. В ней участвуют все, даже случайно зашедшие люди, а также нищие, но не молодежь. Объясняется это тем, что на поминальной трапезе должны присутствовать главным образом те, для кого погребальный обряд будет следующим. Выделение нищих как непременных участников поминания объясняется их посреднической ролью между живыми и мертвыми.
умерший возрождается в новорожденном и совершает регулярные, хотя и кратковременные, посещения живых людей. Для того чтобы умерший не вернулся, надо после возвращения с кладбища вымыть все в доме, открыть в избе печной заслон, заглянуть за печку. Заглядывание в печь или за печь делается для того, чтобы «не бояться умершего». Печь воспринималась как своеобразный «канал связи» с иным миром. После умывания (смывание следов контакта с миром мертвых) приступают к поминальной трапезе. В ней участвуют все, даже случайно зашедшие люди, а также нищие, но не молодежь. Объясняется это тем, что на поминальной трапезе должны присутствовать главным образом те, для кого погребальный обряд будет следующим. Выделение нищих как непременных участников поминания объясняется их посреднической ролью между живыми и мертвыми.


