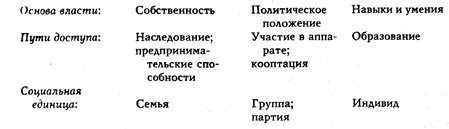политики и технократы в постиндустриальном обществе 3 страница
Упрощенно эти модели могут быть представлены следующим образом:
Трудность анализа власти в современном западном обществе заключается в том, что эти три системы сосуществуют, частично совпадают и взаимно проникают друг в друга. Хотя семья и теряет значение как экономическая единица, в частности в результате распада семейных фирм и семейного капитализма, фамильная принадлежность все же служит определенным импульсом для обеспечения члену семьи некоторых преимуществ (в создании финансовых, культурных и личных связей). Этнические группы, доступ которых к занятию определенного экономического положения зачастую был заблокирован, прибегают к политическим средствам для достижения привилегий и благосостояния. А технические знания в постиндустриальном обществе все более становятся основным показателем компетентности в конкуренции за достижение должности и положения. Сын может сменить отца на посту главы фирмы, но без его умения руководить предприятием компания может не выдержать конкуренции с корпорациями, руководимыми профессионалами. Правда, владелец фирмы иди политический деятель могут нанять специалистов и экспертов, но если они сами не будут обладать специальными знаниями, их суждения могут оказаться ошибочными. Возникновение новых элит, основанных на умениях и навыках, объясняется тем фактом, что в современном обществе знания и планирование — военное, экономическое, социальное — стали основными предпосылками всякой организационной деятельности. Представители этой новой технократической элиты с их техникой принятия решений (использованием системного анализа, линейного программирования и программирования бюджета) стали сейчас играть ведущую роль в формировании и анализе мнений, от которых зависят политические предпочтения, если не само сохранение власти. Именно в этом широком смысле распространение образования, научно-исследовательской и административной деятельности и создало новую общность — техническую и профессиональную интеллигенцию. Хотя эти специалисты и не связаны определенными общими интересами, чтобы стать политическим классом, они все же имеют схожие черты. Прежде всего они являются порождением новой системы комплектования власти (точно так же, как собственность и наследование были сущностью старой системы). Нормы новой интеллигенции — нормы профессионализма — знаменуют отход от господствовавших до сих пор норм экономической выгоды, главного в коммерческой цивилизации фактора. В высших кругах этой новой элиты, то есть научного сообщества, люди являются носителями существенно отличающихся друг от друга ценностей, которые могли бы стать основой нового классового этоса. Институт собственности также подвергается в настоящее время основательной ревизии. В течение последних нескольких столетий в западном обществе собственность, как охрана частных прав на богатство, была экономической основой индивидуализма. Традиционно этот институт собственности, как писал Ч.Рейч из колледжа права Иельского университета, “охраняет беспокойную границу, пролегающую между отдельным человеком и государством”. В современных условиях собственность претерпела изменения по двум четко выраженным направлениям. Одно из них элементарно: индивидуальная собственность стала корпоративной и контролируется теперь не владельцами, а управляющими. Другое менее уловимо и более расплывчато — появился новый вид собственности, а с ним и новый тип юридических отношений. Говоря точнее, собственность сейчас состоит не только из реальных вещей (земель, владений, титулов), но также из претензий, субсидий и контрактов. Имущественные отношения существуют не только между отдельными людьми,, но и между индивидами и государством. Как отмечает Ч.Рейч, “ценности, распределяемые правительством, имеют разные формы, но все они отличаются одной общей особенностью. Все они постепенно заменяют традиционные формы богатства— формы, которые принято считать частной собственностью. Социальное страхование замещает сбережения, государственный договор заменяет владельцу фирмы его клиентов и их лояльность... Все большее число американцев живет на субсидии, предоставляемые государством на определенных условиях, и их получатели подчиняются требованиям, отражающим "общественный интерес" ”16. В то время как многие формы этой “новой собственности” представляют собой прямые субсидии (фермерам, корпорациям и университетам) иди договоры на получение товаров иди услуг (с промышленными предприятиями и университетами), преобладающая форма требований — это требования со стороны отдельных лиц (социального страхования, медицинской помощи, пособия на приобретение жилища). Такая форма является следствием нового содержания социальных прав: требований, предъявляемых общественным органам, относительно равенства. Эти требования, в свою очередь проистекают от узаконенной возможности для отдельных лиц пользоваться социальными благами. Самым же важным тре- 16 Reich СЬ. The New Property // The Public Interest. Spring 1966. P. 57.
бованием является абсолютная доступность образования в пределах индивидуальных возможностей и таланта. Результатом всего этого становится расширение сферы власти и в то же время усложнение способов принятия решений. Внутренний политический процесс, начало которому было положено “Новым курсом”, в сущности представлял собой расширение “брокерской” системы — системы политических сделок между частями сообщества, — хотя теперь в игре имеется много участников. Но в политическом процессе появилось и иное измерение, предоставляющее технократам новую роль. Вопросы внешней политики не являются отражением внутренних политических сил, они служат общенациональным интересам, охватывающим и стратегические решения, основанные на определении силы и намерений противника. Поскольку основным политическим решением было противодействие коммунистической мощи, многие технические вопросы, основанные на военной технологии и стратегических расчетах, приобрели огромное значение в разработке соответствующей политической линии. Последовала даже перекройка экономической карты Соединенных Штатов, причем важнейшую роль приобрели Техас и Калифорния с их электронными и авиакосмическими предприятиями. В подобных случаях потребности определялись технологией и стратегией, и лишь затем деловые и местные политические круги имели возможность попытаться приспособить принимавшиеся на федеральном уровне решения для защиты своих собственных экономических интересов. Во всех этих процессах техническая интеллигенция занимает двойственную позицию. В той мере, в какой она заинтересована в исследованиях и сохранении своего положения в университетах, она становится новой общностью, как стали таковой и военные круги, ибо никогда прежде Соединенные Штаты не имели постоянного военного ведомства, требующего денег и помощи для науки, исследовательской деятельности и развития. Таким образом, интеллигенция выступает, как и другие группы, претендентом на общественную поддержку (хотя ее влияние ощущается скорее в бюрократическом и административном лабиринте, чем в системе выборов и массовом давлении). В то же время специалисты представляют незаменимый административный персонал для руководителей политических ведомств и их приверженцев.
АРЕНА ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ В то время как влияние отдельных классов может меняться, сущность политической системы как сферы противостояния различных интересов не меняется никогда. В ближайшие несколько десятилетий политическая арена приобретет большее значение, чем что бы то ни было, по двум основным причинам, упоминавшимся мною в предыдущих главах: мы впервые стали национальным обществом, в котором ключевые решения, затрагивающие одновременно все элементы социального целого (от внешней политики до финансовой), принимаются правительством, а не зависят от рынка; кроме того, мы стали коммунальным обществом, в котором многие группы стремятся утвердить свои социальные права, свои требования к обществу через политический порядок. В национальном обществе все больше и больше проектов (будь. то борьба с загрязнениями или реорганизация городов) должно осуществляться посредством групповых иди коммунальных инструментов. В тесно переплетенном обществе все больше решений приходится принимать с помощью политических мер и о. помощью планирования. Но, как ни парадоксально, оба эти механизма обостряют социальные противоречия. Планирование нацелено на конкретные, требующие решений вопросы, в отличие от обезличенной и всеобщей роли рынка, и, таким образом, становится тем видимым центром, к которому могут быть обращены требования. Коммунальные методы — стремление превратить разногласия по поводу индивидуальных личных предпочтем ний в вопрос общественного выбора — неизбежно усиливают остроту конфликта ценностей. Нужно ли нам при лимитированном числе мест равное образование для чернокожих за счет, предположим, мест для других студентов? Нужно ли нам сохранить лес, где растет красное дерево, вместо того, чтобы построить предприятие, выгодное для местного сообщества? Примиримся ли с шумом моторов в жилых районах, расположенных близ аэропортов, или будем настаивать на снижении веса и полезной нагрузки самолетов с вытекающим отсюда повышением расходов для промышленности и пассажиров? Следует ли проложить новую дорогу через старый жилой район иди провести ее в обход, увеличив при этом общие издержки? Все подобные вопросы и еще тысячи других не могут быть разрешены с помощью технических критериев; они неизбежно замкнуты на ценностные и политические проблемы. В ближайшие десятилетия соотношение технических и политических решений станет одной из основных проблем общественной политики. Политическому деятелю, так же как политическим кругам, придется все глубже осваивать технический характер политики и учитывать усиление коллизий при принятии решений по мере расширения систем. Как отмечал Р.Солоу, взгляды А.Смита могли быть всенародно понятыми, чего нельзя сказать об эконометрическом, например, исследовании различных программ социальных инвестиций... А технической интеллигенции следует в рамках своей специальности научиться ставить под сомнение часто не анализирующиеся понятия эффективности и рациональности. В конечном итоге техническое мировоззрение неизбежно опережает политику. Надежды на рациональность — или, вернее, на ее особый тип — неизбежно исчезают. Говоря языком М.Вебера, может сохраняться Zweckrationalitaet — рациональность средств, взаимосвязанных с целями и, таким образом, взаимоприспосабливающихся. Но это возможно только в тех случаях, когда цели четко определены и когда средства могут быть строго рассчитаны в соответствии с ними17. Политика в том смысле, как мы ее понимаем, всегда опережает рациональное и часто идет с ним вразрез. Как известно, “рациональное” — это установившаяся общепринятая административная и упорядоченная процедура, отвечающая определенным правилам. В комплексном обществе многие аспекты жизни в большинстве случаев соответствуют этим правилам. Отправляясь самолетом или поездом в Вашингтон, никто не станет торговаться с авиационной или железнодорожной компанией о цене проезда, как это происходит при общении с таксистом где-нибудь в Восточном Средиземноморье. Но политика заключена в споре; в противном случае она становится принуждением. В Вашингтоне спорят по поводу общественных привилегий, распределения денежных средств, тягот налогообложения и т.п. Идея о существовании “общественного решения”, удовлетворяющего каждого, была 17 В веберовской терминологии существует рациональность двух видов — Wertrationalitaet и Zweckrationalitaet. Wertrationalitaet обосновывает то, почему те иди иные цели представляют ценность сами по себе, независимо от средств. Zweckrationalitaet обозначает рациональность функции.
опровергнута К.Эрроу, доказавшим в своей “теореме невозможности”, что нет такого решения, которое могло бы соединить в себе запросы различных групп так же, как это может сделать один человек, принимая собственное решение. Таким образом, экономическая теория, отвергая функцию общественного благосостояния, аналогичную упорядоченным принципам индивидуальной полезности, подрывает применение рациональности к общественным решениям. Практически это ощущает любой политический деятель. Таким образом, остается не рациональность как объективное определение общественных полезностей, а торг между людьми. Что касается политики, то ясно, что имеют место выступление со стороны общества против бюрократии и стремление к участию — тема, нашедшая отражение в крылатой фразе “люди хотят иметь возможность воздействовать на решения, влияющие на их жизнь”. В значительной степени в постиндустриальном обществе революция участия есть одна из реакций на “профессионализацию” общества и учащающееся принятие решений технократами. То, что в давние годы началось на фабриках благодаря профсоюзам, теперь распространилось и на близкие к ним сферы, а в силу политизации социальных решений — и на университеты; в ближайшие десятилетия это проявится и в других сложных организациях. Старые бюрократические модели иерархически построенных централизованных организаций, функционирующих при помощи интенсивного разделения труда, несомненно, будут заменены новыми формами. И все же “демократия соучастия” является панацеей (какой изображают ее пропагандисты) не в большей степени, чем прилагавшиеся полвека тому назад усилия по созданию политических механизмов плебисцита в виде референдума или права отзыва депутата. Несмотря на возмущение, вызываемое “демократией соучастия”, лишь немногие ее сторонники пытались продумать до конца на самом элементарном уровне значение этих слов. Если отдельным людям надлежит влиять на решения, изменяющие их жизнь, то в соответствии с такими правилами сторонники сегрегации на Юге имели бы право исключить чернокожих из учебных заведений; аналогично, можно ли позволить населению района наложить вето на план городского переустройства, который принимает во внимание потребности более широкой и представительной социальной группы? Однако по этому поводу можно возразить, что южные штаты — это не независимая единица, а часть государства, которой следует придерживаться моральных норм более широкого сообщества; то же самое относится и к району. Короче говоря, демократия соучастия — это еще один путь постановки классических вопросов политической философии, а именно: кто и на каких правительственных уровнях должен принимать решения, какого типа и на какую социальную группу они должны распространяться? Концепция рациональной организации общества продолжает оставаться в тупике. Рациональность как средство, как набор способов эффективного распределения ресурсов выходит за рамки представлений ее создателей; рациональность как цель наталкивается на нетерпимость политики — политики интересов и политики эмоций. Оказавшись перед этой двойнрй пропастью, сторонники рациональности — в частности плановики и инженеры — оказались в трудном положении: им приходится переосмыслить свое предназначение и осознать пределы своих возможностей. И все же само признание таковых уже является свидетельством мудрости. Как писал Т.С.Элиот, начало находится в конце, и мы возвращаемся к вопросу, лежащему в основе всей политической философии: какова та хорошая жизнь, к которой все стремятся? Политика будущего — по крайней мере для тех, кто действует внутри общества, — будет не спорами между функциональными группами с их экономическими интересами по поводу распределяемого национального продукта, а заботой о коммунальнэм обществе, в частности о малообеспеченных группах населения. Основными проблемами станут внушение лидерам этоса ответственности, обеспечение больших удобств, красоты и лучшего качества жизни в устройстве наших городов, более дифференцированной и интеллектуальной системы просвещения, совершенствования характера нашей культуры. Мы можем расходиться в вопросах о путях достижения этих целей и распределения расходов. Но такие вопросы, возникающие из концепции общего блага, возвращают нас к классическим вопросам государственности. Так и должно быть.
ЭПИЛОГ Повестка дня для будущего
1. КАК ИЗМЕНЯЮТСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Социальные системы изживают себя медленно. В 50-е годы XIX века К.Маркс думал, что “исторический революционный процесс” уже разрушает буржуазное общество и вплотную подводит Европу к социализму. Он боялся, что окончательный переворот произойдет раньше, чем он закончит свое великое обоснование этому в “Капитале”, и писал Ф.Энгельсу в конце 1857 года: “Я работаю, как бешеный, ночи напролет над подытоживанием своих экономических исследований, чтобы до потопа иметь ясность по крайней мере в основных вопросах” 1. Между тем, хотя в то время и отмирал еще более старый социальный строй, даже он просуществовал еще полвека после этих 1 В своей речи, произнесенной в 1856 году, он прибег к метафоре из области геологии: “Так называемые революции 1848 года были лишь мелкими эпизодами, незначительными трещинами и щелями в твердой коре европейского общества. Но они вскрыли под ней бездну. Под поверхностью, казавшейся твердой, они обнаружили колышущийся океан, которому достаточно прийти в движение, чтобы разбить на куски целые материки из твердых скал”. Также интересна мысль К.Маркса, развитая им в последующие годы, о том, что никакая социальная система не исчезает до тех пор, пока не будет исчерпан весь ее потенциал для развития, мысль, которую он выдвинул в противовес утопистам, левакам и политическим авантюристам, которые считали, что только “воля” способна привести к социальной революции. Речь 1856 года была произнесена на юбилее чартистской газеты “People's Paper” и напечатана в: Marx К. Selected Works. Vol. 2. Moscow, 1935. P. 427 (перевод этой цитаты приводится по: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е издание. Т. 12. С. 3—5]; письмо к Ф.Энгельсу цитируется в редакторских примечаниях к изданию: The Correspondence of Marx and Engels. N.Y., 1936. P. 225-226 [перевод этой цитаты приводится по: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е издание. Т. 29. С. 185 ].
событий2. В нашу эпоху сокращающегося социального времени мы забываем, что могущественные монархические системы просуществовали до 1918 года в Германии, России, Австро-Венгрии (что составляет значительную часть Центральной Европы) и Италии. В Англии же небольшая верхушка общества, члены которой близко знают друг друга, все еще управляет страной. Коммунистическая революция родилась из пепла первой мировой войны, но этот большой пожар не столько уничтожил капитализм, сколько окончательно покончил с политическими пережитками феодализма. Через девяносто лет после смерти К.Маркса капитализм все еще господствует в западном мире, в то время как, сколь это ни парадоксально, коммунистические движения пришли к власти в основном в аграрных и доиндустриальных государствах, в которых “социалистическое планирование” стало в значительной мере альтернативным путем индустриализации. Таким образом, предсказание скорого краха капитализма является рискованным занятием, и, если исключить развал политической надстройки этой системы вследствие войны, социальные формы управленческого капитализма — корпоративные предприятия, частный механизм принятия инвестиционных решений, различия в привилегиях, базирующиеся на контроле над собственностью, — вероятнее всего, сохранятся еще в течение долгого времени. Тем не менее функциональная основа системы изменяется и становятся заметными характерные черты нового общества. Исторические перемены происходят в двух важных направлениях. Первым является отношение экономической функции к другим основным социальным функциям. К.Маркс в своем взгляде на капиталистическое общество сделал акцент на классовой разделенности как источнике напряженности, на эксплуатации рабо- 2 В мемуарах “Gesichter und Zeiten”, опубликованных за два года до своей смерти в 1935 году, немецкий граф и известный издатель Г.Кесслер, родившийся в 1868 году, возвращаясь к восьмидесятым годам, вспоминал о широко распространенном чувстве того, что “некогда очень великая, старая, космополитическая, все еще по-прежнему аграрная и феодальная Европа, мир красивых женщин, галантных королей, династических связей, — Европа восемнадцатого столетия и Священного союза, постарела, стада немощной и медленно умирает; и что-то новое, молодое, пока невообразимое, должно появиться”. Цитируется по: The New Yorker. January 15, 1972. чих экономической системой, и предсказал политический переворот и установление нового социального порядка в результате преодоления классового типа социума. В то же время Э.Дюркгейм, основываясь на теории индустриального общества, видел источник беззакония и разрушения социальной жизни в отсутствие механизмов, способных ограничить проявления самой экономической функции. Как он писал в 1890 году, “социальная функция не может существовать без моральной дисциплины. В противном случае ничего не остается, кроме индивидуальных аппетитов, а так как они по своей природе безграничны и ненасытны, то в случае, когда над ними не существует контроля, они сами не в состоянии себя сдерживать. Именно вследствие этого происходит кризис, от которого страдают в настоящее время европейские общества. В течение двух веков экономическая активность развивалась такими темпами, как никогда ранее. С периферийных позиций, которые она занимала прежде, третируемая верхами и оставленная низшим классам, она на наших глазах вышла на передовые рубежи. Перед ней отступают на задний план военные, административные и религиозные функции. Аишь научные институты оспаривают ее приоритет, но даже наука вряд ли столь престижна в наши дни, кроме как в своем прикладном значении, и, следовательно, главным образом обслуживающая бизнес. Вот почему можно с известной долей уверенности сказать, что общество является (или имеет тенденцию стать) индустриальным”3. Главная проблема подобного социума, таким образом, — не классовый конфликт, который оставался побочным аспектом неограниченной конкуренции в сфере заработной платы, а нерегулируемый характер самой эко- 3 Durkheim E. Professional Ethics and Civic Morals. Glencoe (111.), 1958. P. 10-11. Эти лекции, не издававшиеся при жизни Э.Дюркгейма, впервые увидели свет в Турции (опубликованные Стамбульской шкодой права) и Франции (в издании Press Universitaires de France) в 1950 году. Сам курс был прочитан в Бордо в 1890 и 1900 годах и повторен в Сорбонне в 1904 и 1912 годах. Приведенная выше цитата в слегка сокращенном виде появилась в авторском предисловии ко второму изданию книги “Разделение труда”, которое вышло в свет в 1902 году под названием “Quelque Remarques sur les Groupements Professionels” (cm: Durkheim E. The Division of Labor in Society. N.Y. 1933. P. 3). В последних двух строках цитаты я использовал формулировку из предисловия к работе “Разделение труда”, поскольку она усиливает точность смысла слов Э.Дюркгейма.
номической функции, [имеющий место] даже тогда, когда наблюдается вмешательство государства. Решающим социальным изменением, происходящим в наше время, — обусловленным зависимостью людей от сложного xaf рактера экономических процессов, возникновением проблемы внешних побочных эффектов, а также необходимостью контроля за последствиями научно-технического прогресса, — стало подчинение экономической функции политическому фактору. Формы, которые примет этот процесс, будут варьироваться и определяться историческими особенностями различных политических систем — централизованным государственным контролем, государственными корпорациями, децентрализованными предприятиями и центральной системой политических директив, смешанными государственными и частными предприятиями и т.п. Одни из них будут демократичными, другие — нет. Но главный факт очевиден: автономия экономики (и власти людей, которые ею управляют) приходит к концу; возникают новые, качественно отличные системы управления. Контроль над обществом перестает носить в основном экономический характер и становится преимущественно политическим. Второй важнейший исторический сдвиг — отделение общественной функции (или места человека в обществе, обычно задаваемого характером его занятий) от собственности. В западном обществе, особенно на капиталистической стадии развития, общественная функция могла быть трансформирована в собственность (землю, машины, акции и т.д.), которая сберегалась как богатство и передавалась по наследству в целях создания преемственности прав — привилегий, которые постепенно оформились в социальную систему. В новом обществе, которое формируется ныне, индивидуальная частная собственность теряет свое общественное предназначение (защиты труда в том смысле, как это понимал Дж.Локк, контроля иди управления производством, вознаграждения за риск) и сохраняется лишь как функция. Автономность функции, иди техническая компетентность, была основой технократической теории А. де Сен-Симона. Она стала базой нравственного подхода выдающегося английского социалиста и историка народного хозяйства Р.Г.Тауни. В своем авторитетном трактате “Стяжательское общество” он доказывает, что владение собственностью потеряло связь с моральным правом быть основой вознаграждений и поэтому стало в меньшей степени критерием престижа иди социального положения, чем функцией, которую он определил “как активность, заключающую в себе и выражающую собой идею социальной цеди”4. Р.Г.Тауни дает определение профессионализма, и если его теория верна, то сердце постиндустриального общества — это класс, который прежде всего является профессиональным классом. Хотя границы, возникающие при определении статуса каждой группы, подвижны и зачастую расплывчаты, тем не менее ядро определяющих его элементов четко обозначено5. Профессия — это теоретически усвоенная (т.е. постигаемая) деятельность, и, таким образом, она предполагает процесс формальной подготовки, но в широком интеллектуальном контексте. Принадлежность к какой-либо профессии означает формальное или неформальное признание этого людьми или специальным официальным органом. При этом профессия содержит в себе норму социальной ответственности. Это не означает, что профессионалы более великодушные или идеалистически настроенные люди, но ожидаемая модель их поведения по сравнению с другими граж” данами предопределяется этикой их деятельности, которая, как правило, первична по отношению к этике эгоизма6. По этим причинам представление о профессионализме заключает в себе идею компетентности и авторитета технического и морального поряд- 4 Tawney R.H. The Acquisitive Society. N.Y., 1920. P. 8. См. в особенности главы шестую — “Функциональное общество” и десятую — “Положение работника умственного труда”. 5 Классическое обсуждение этого вопроса можно найти в: Carr-Saunders A.M., Wilson P.A. The Professions. Oxford, 1933 (особенно в четвертой части “Профессионализм и общество будущего”); суммированное изложение концепции — в статье: Parsons Т. Professions // The International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol. 12. N.Y., 1968. Ряд независимых дискуссий по вопросу о профессионализме освещен в: Wilensky H. The Professionalization of Everyone // American Journal of Sociology. Vol. 70. No. 2. September 1964 и Jackson J.A. (Ed.) The Professions and Professionalization. Cambridge (UK), 1970. 6 Можно сказать, что бизнес “подотчетен” потребителям через рынок, в то время как профессионал “подотчетен” своим руководителям в пределах профессиональной группы. Собственность ассоциируется с богатством, которой передается непосредственным юридическим образом; профессия определяется навыками, передающимися лишь опосредованно через культуру, которую могут унаследовать дети представителей класса профессионалов.
ка и предполагает, что профессионал имеет основания занять/ заметную позицию в иерархической структуре общества. В шестой главе я уже останавливался на изменениях, которые претерпели классы и власть в индустриальном обществе. Исходи из этих посылок, можно попытаться оценить тенденции будущего развития. Если рассматривать социальную структуру постиндустриального общества в двух отмеченных выше аспектах, можно сделать два вывода. Во-первых, основной класс в нарождающемся социуме — это прежде всего класс профессионалов, владеющий знаниями, а не собственностью. Но, во-вторых, система руководства обществом определяется не передачей власти по наследству, а политической системой, и вопрос о том, кто стоит у ее руководства, остается открытым, СХЕМА Социальная структура постиндустриального общества (американская модель) I. Статусные группы: ось стратификации основывается на знании (горизонтальные структуры) А. Класс профессионалов — четыре сословия: 1. научное 2. технологическое (прикладные типы знания: инженерные, экономические, медицинские) 3. административное 4. культурологическое (художественная и религиозная деятельность) Б. Техники и полупрофессионалы В. Служащие и торговые работники Г. Ремесленники и полуквалифицированные рабочие (“синие воротнички”) II. Ситусные группы: сферы приложения профессиональной деятельности (вертикальные структуры) А. Экономические предприятия и коммерческие фирмы Б. Правительство (юридическая и административная бюрократия)
|