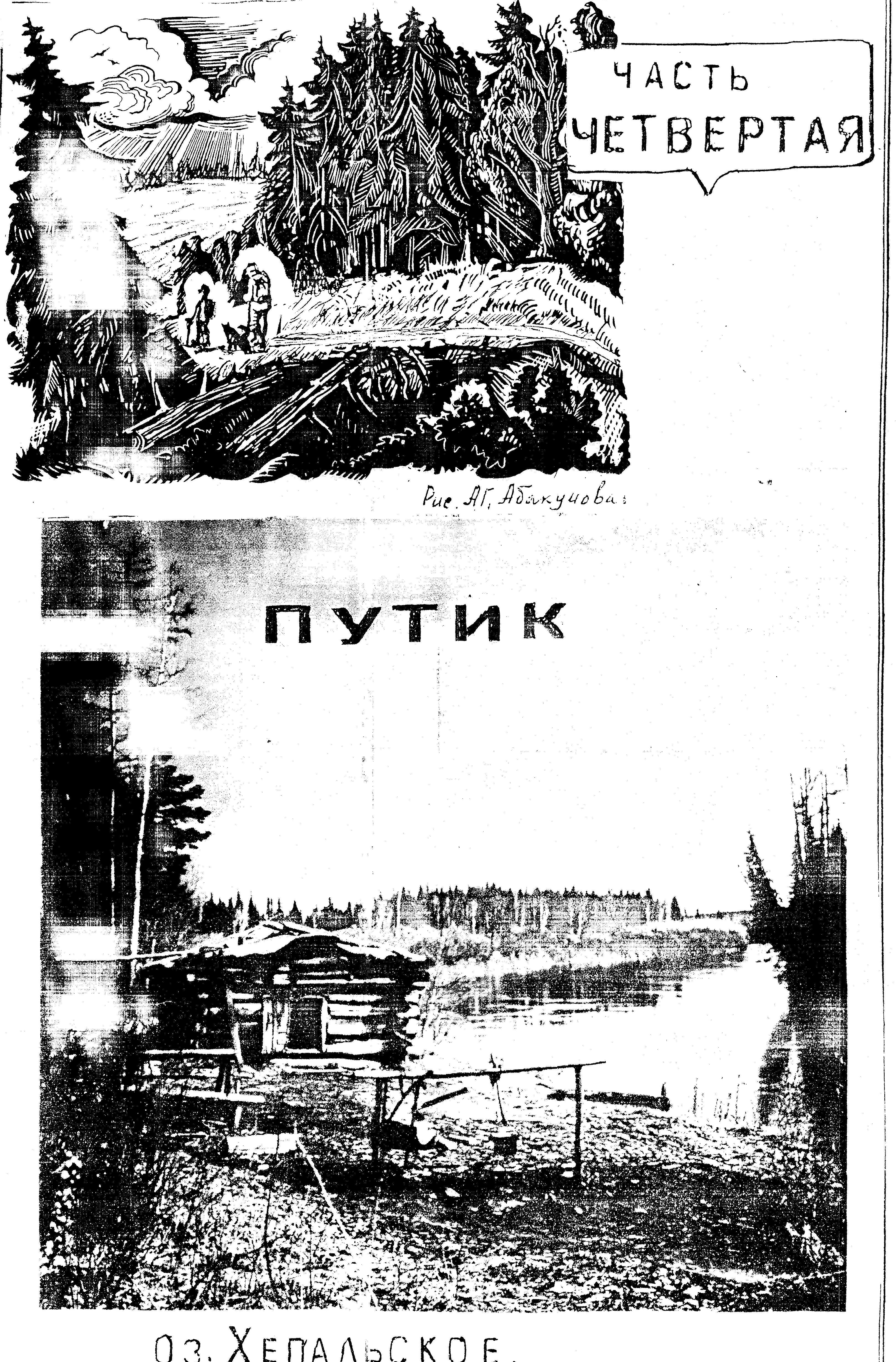Первый председатель; первые годы жизни колхоза 6 страница
Мечтали поймать семгу, но не удавалось, а вот стерлядку ловили, правда, за много лет несколько штук. Рыбачили детьми и в юношеские годы, а чем дальше, рыбалки случались все реже и реже. На рыбалку на Северную Двину иногда ходили мы гурьбой по четыре-пять мальчишек. Придя на берег реки, прежде чем начать лов рыбы, проводили состязание по "выпечке блинов" - бросанию плоских камешков так, чтобы они много раз подскакивали на поверхности воды перед тем, как утонуть. Победитель игры "печь блины" награждался правом выбора места на берегу для ловли рыбы на удочку в эту вечернюю и реже утреннюю зорьку. Иногда победителя освобождали от сбора дров для костра, если рыбалка длилась всю ночь. Были среди нас и чемпионы-мастера выпекать до 10 и более блинов. Второй игрой на берегу С.Двины была "меткость" - бросание камешков в банку. Отыскивали большой валун, на него ставили консервную банку. Отсчитывали от валуна двадцать шагов и обозначали линией место, где должен стоять участник игры. Каждый подбирал пять-десять увесистых камушков, и начиналось испытание на меткость. По сигналу старшего очередной игрок мечет камень в банку. Задача - меньшим числом камушков сбить банку с камня. Победитель тот, кто меньше израсходовал камней на сбитие банки. Ходили на рыбалку с ночевкой, т.е. чтобы половить рыбу на вечерней и утренней зорях. А между зорями на берегу реки разводили костёр и пекли картошку. Обжигая руки, чистили обгоревшую кожуру картошки и, чуть посолив, кушали неописуемый деликатес в наступившей прохладе и тишине успокоившейся С.Двины, как бы тоже решившей отдохнуть, от тяжелого рабочего дня. О картошке пели мы тогда песню: "Здравствуй милая картошка! Пионеров идеал. Тот не знает наслажденья, Кто картошку не едал. Лучше холмогорской картошки нет нигде. Она в руках рассыпается, её без ничего есть можно. Картошка была нашим спутником в жизни. И это отражено в песне: "Здравствуй, милая картошка! Низко бьем тебе челом. Даже дальняя дорожка, Нам с тобою нипочем". Эти песни мы пели у пионерского костра, на рыбалке, и были они нашими спутниками в жизни. Весной тридцать третьего года отец Гриши - Иван Григорьевич - разрешил ему ходить на охоту с ружьем. Ружьё у Гриши было 28 калибра, центрального боя, новенькое, очень красивое, был и патронташ, и ягдташ. Однако Иван Григорьевич поставил условие: сдать экзамен по стрельбе и по правилам безопасности. В марте он организовал занятия по стрельбе, на которые был приглашён и я, так как на охоту мы уже ходили вместе, но только с одним моим ружьём. Занятия были организованы за гумном, которое находилось у дороги в вересник на склоне, в ста метрах от бани. На двери входа в печь овина была нарисована утка, почти у самой земли. Мы лежали в тридцати шагах, а по команде Ивана Григорьевича поочередно стреляли утиной дробью. Мое ружье было 24 калибра с винтовочным затвором (переделана трехлинейка на Тульском заводе), очень старое, но било хорошо. Разрешалось сделать два выстрела каждому. После каждого выстрела смотрели цель и отмечали пробоины карандашом. Стреляли хорошо. Но на следующее воскресенье была организована стрельба в "лёт". Для этого Иван Григорьевич поставил длинный шест на овин. От вершины шеста в сторону леса до земли была натянута тонкая веревка, по которой скользил макет утки от вершины шеста до флажка, подвязанного в двух метрах от земли (по высоте). Иван Григорьевич подавал команду, дергал за шнур, (выдергивал крепление) утка как бы летела вниз. За это время один из нас должен был сделать выстрел. Затем шли смотреть, сколько попало дробин в утку. Если даже попадала одна дробинка, задача считалась выполненной. Успех был очень плохой, расход зарядов был для меня катастрофическим, и я отказался стрелять в «лёт». Но Иван Григорьевич дал пороху и дроби, и мы занятия продолжали. За все эти дни стрельбы нас он учил обращению с ружьем и правилам безопасности на охоте и дома при обращении с ружьём. Его учёба для меня осталась памятной на всю жизнь, и много раз я благодарил (заочно) Ивана Григорьевича за науку, которая мне пригодилась в жизни многократно. Так мы стали ружейными охотниками и в положенное время (разрешение на охоту) ходили в лес стрелять рябчиков и тетеревов, а в озерах Линное и Колода - уток. Гриша был среднего роста, коренаст. Помнится, что глаза были голубовато-серые. Он зорко всматривался ими в глубь леса. Юный охотник в лесу вмиг преображался, движения его были бесшумны, лицо становилось строгим. Он любил охоту на рябчиков с манком (пищиком) и однажды пожелал поделиться опытом этой охоты со мной. В лесу у нас были заветные места. Осенью, когда в золотистый наряд оделись белокорые березы, багряно-красными стали осины, а ели да молодые стройные сосенки красовались в своих вечнозеленых нарядах, в тихий солнечный день мы с Гришей пришли на одно из заветных мест, в районе Елового ручья, охотиться на рябчика. Тихо, изредка кричала сойка, пела свою звонкую песенку синица да стучал на дереве работяга-дятел. В такой осенний, тихий, ясный день, красавец рябчик, дымчато-бурый с белыми крапинками и черными пестринками, с хохолком на темени, с черным пятном в белой оправе под горлом (у петушка, а у самки горло светлое с пестриками) и красными ободками вокруг глаз, прилетал на зов манка. Серебряный голосок этой птицы, очень затаившейся на дереве, как будто и нет её там, далеко разносился в тихие утренние часы. Мы уселись под густой елью. Гриша достал из кармана медный пищик (манок) и стал издавать тоненький с легким перебором свист и напряженно вытягивал шею, прислушиваясь к ответному писку рябчика. Манил, издавая звук самочки: "Ти-уу-та", "ти-уу-та", поворачивая голову в разные направления. И вдруг он мне шепчет, что слышит ответ петушка: "Ттии-ттии-ти-ги-ти", а я ничего не слышал. Гриша подождал немного и снова поманил. Петушок вновь откликнулся, а даже я это услышал. Вдруг с шумом взлетел рябчик, подлетел к нам и сел на ель рядом с нашей, поворачивая головку из стороны в сторону, ища подружку, позвавшую его. Григорий привычным движением вскинул ружье к плечу, прицелился и нажал на спусковой (крючок). После выстрела рябчик, стукаясь о сучки, камешком упал на землю под ель. Я пробовал призывать рябчиков, но, видимо, они замечали фальшь издаваемого писка и на призыв моего пищика не отзывались. Манить рябчика надо умело, искусно, а для этого надо обладать хорошим слухом. Кроме того, рябчик отзывается на манок только в ясную, слегка прохладную погоду. В ненастье рябчики хоронятся в густом ельнике и помалкивают. Был всё же у меня успех подозвать к себе рябчика. Шёл я однажды с охоты и в одном бору, отдыхая, услышал позывные рябчика-петушка. Я достал пищик и, стараясь, начал издавать звуки курочки. Так длилось несколько минут. Но рябчик не летел. Вдруг я услышал шорох на лесной подстилке. Оглянувшись, я увидел рябчика, подбежавшего ко мне по земле, он находился примерно в пяти метрах, поворачивая голову, Смотрел по сторонам. Я залюбовался им. Ни о каком выстреле и речи быть не могло. Как только я чуточку пошевелился, рябчик с шумом вспорхнул и улетел далеко от меня. Это, пожалуй, был самый счастливый день моей охоты, когда я посмотрел эту чудесную птицу и не выстрелил в нее. В сосновом бору, на сфогновом болоте и в березовых рощах мы с Гришей собирали грибы и ягоды. Особенно много было подосиновиков, рыжиков, волнушек и других губ, а также брусники и черники. И все же мы больше всего увлекались рыбалкой и охотой. С большим наслаждением совершали походы на Хепальское, по путику вдоль Варварина болота и Елового ручья в другие заветные места юго-восточнее Ичкова. В то время в этих лесах много было тетеревов, куропаток, глухарей, рябчиков, зайцев и другой дичи, а в озерах - щук и окуней. Хотя ружейная охота была менее успешна, чем рыбалка, но побродить по лесу было большим удовольствием. Работа на МТФ нас приучила вставать в четыре часа утра. Поэтому у нас, молодых охотников, привычными стали два утра: одно от зари до восхода солнца, другое с восходом солнца. Смена зорь была сигналом для начала и охоты, и рыбалки. Так и повелось: началась заря - значит охотиться пора. Мы познала одну тайну белой куропатки. Белая куропатка сидит на гнезде, затаившись так, что за можно тронуть рукой. Сначала мы недоумевала, как же так, спугнули с гнезда, а яиц нет, что же она так таилась? И вот потом разобрались (видимо, с помощью взрослых). Куропатка, вздетая с гнезда, яйца раскатывает в стороны - на полметра, а то и метр. По возвращении она скатывает яйца обратно в гнездо и сидит, как будто ничего не произошло. Наша дружба измерялась бессонными ночами под проливными дождями у чадных костров, долгими походами по охотничьим тропам. Вечер. Костер горит и пылает, веселый и приветливый, такой, что глаза трудно отвести от него. На зеркальной поверхности озера отражается его подвижное, неспокойное красное лицо. Вокруг тихо, лишь где-нибудь громко всплеснёт рыбина. Мы с нетерпением ждем, когда сварится рыба в уже закипавшей воде в котелке, висящем на таганке над костром. Во время рыбалки и охоты с ночевкой отдыхали в охотничьей избушке. В этой дымной избушке приходит крепкий сон. А после трудового дня был волчий аппетит. Даже жиденькая уха, сваренная из немногочисленной рыбьей мелочи, казалась деликатесом; похлебав её, мы крепко засыпали на подстилке из душистого сена. Открытие весеннего охотничьего сезона мы встречали на лугу, залитому водой Северной Двины, а рыбалку - на Хепальском. Весной Северная Двина разливалась, затопляя пожни и луг. Талая вода за два-три дня выходила из берегов и стремительным потоком лилась через пожни, особенно, когда в Орлецах был на реке затор льда с лесом. Словно приветствуя этот могучий поток, голосили птицы, а в рассветной выси слышались призывные голоса журавлей и гусей. На луг, залитый водой, садились перелетные утки, гуси и масса куликов, маленьких и больших. Начиналась весенняя охота на уток, иногда удачливая. Стаи уток исчислялись не десятками, а сотнями. Мы охотились на "настоящих" уток-крякв. Эти утки кормятся на мелководьях и на суше, преимущественно по вечерам и ночью. Охотились с подхода и из шалаша, построенного на опушке вересника. Шалаш делали из хвороста и кустарника. Чаща всего стреляли уток, сидящих на земле или на воде у берега. Охота на крякв, как правило, производилась вечерами и утренними зорями на Линном, Колоде и на других местах кормежек. Так как утром и вечером мы с Гришей работали, то, чаще всего, охотилась днем, засев в местах, куда утка слетаются на днёвку. Использовала манок, подманывая кряковых. На Варварином болоте водилось много серых журавлей и куликов, а на озерах и лесных речках - уток. В нашей местности на журавлей не охотились. Журавлей считали священными, приносящими людям счастье, а выстрел по ним - беду. Мы с Гришей любили наблюдать за этими чудесными птицами. В конце апреля, как правило, небольшими стаями прилетали серые журавли. Прилетевшие на родину журавли сразу же начинают участвовать в своеобразном токовании - плясках, которые очень интересны. Чаще всего плясали журавли парами, редко - стаями. Они очень осторожны, поэтому мы наблюдали издалека (в 200-300 метрах). Гнездовья их была около Хепальского, на сплошь заболоченной долине, невзрачной, с кочками трясины. Это старое заболоченное, очень коварное озеро, почти не посещаемое людьми, и облюбовала журавли для своих гнездований, находя пищу на моховом болоте. Найти гнездо журавлей очень трудно, так как журавли очень скрытны. Мы знали одно журавлиное гнездо, построенное прямо на земле (на кочке) очень небрежно, как куча хвороста, внутри которого располагался выстланный сухой травой лоток. Мы установили, что старые птицы занимают свои прошлогодние гнезда, подновив их. Самка откладывала 2-3 крупных яйца. Насиживают поочередно обе птицы. Но самец сидит только тогда, когда самка уходит из гнезда на кормежку. Самец находится поблизости от гнезда, зорко охраняет гнездовий участок. Примерно через месяц после начала высиживания у журавлей появляются птенцы, растущие очень быстро. Как только они поднимались на крыло, вся семья утром и вечером совершала вылеты на кормежку на копанины (в поля), где рожь, овес или горох. Мы установили, что журавли любят кушать зерна, ягоды, различные травы и корни. Даже видели, как некоторые журавли ловили лягушек и мышей. Все это нам удалось наблюдать в течение трёх лет. Может быть, я не все запомнил и думаю, что читатели мне простят. В рассветной выси весной слышатся голоса прилетающих, а осенью улетающих (большими косяками пролетающих) журавлей. Оба мы была комсомольцами. В комсомол вступили четырнадцатилетними. Комсомольские поручения Григорий выполнял аккуратно и в срок. У него было постоянное поручение писать призывы, лозунги на бумаге и красной материи, которые тогда были в моде, оформлять стенную газету, которую мы выпускали еженедельно, просиживая над ней вечерами, а также он отвечал за украшение внутренних помещений избы-читальни. Но всё же не это было главным. Он был самым активным участником и вдохновителем самодеятельного музыкального кружка. Часто комсомольцы выступали перед колхозниками в Ичкове, Ступине и Копачове. Ставили спектакли и что-то наподобие концертов. Со сцены избы-читальни звучала северная песня, заливались гармонь и задорная балалайка. Девушки выступали на сцене в северных нарядах, позаимствованных у матерей и бабушек. На каждом вечере самодеятельности комсомольцы выступали с частушками, ими же составленными, с критикой на злобу дня и лирическими. Гриша играл на гармошке, а я с комсомолкой Лизой декламировал стихи и частушки. Был и курьез. Однажды за частушку, вернее за резкую, но справедливую критику плохой работы одного колхозника, силача и забияки, он нас с Гришей вечером побил, но рано утром следующего дня пришел с извинениями, и мы его простили. В избе-читальне с 1932 года начали работать различные кружки, организованные под руководством Антипина Андрея. Особенно много посетителей избы-читальни стало с появлением детекторного радиоприемника, с наушниками. Поэтому нам приходилось мало слушать передачи из Москвы из уважения к старшим, которым дали преимущественное право пользования наушниками (иногда наушник клали в кувшин, и несколько человек сразу слушали передачу). Празднование Первого мая и годовщины Великого Октября проводили бурно: демонстрации, флаги, взволнованные речи, прежде всего молодежи. Все это волновало, будоражило, возвышало нас, мальчишек. Мы верили в светлое будущее, в то, что сбудутся наши надежды. Свою жизнь мы представляли среди природы. Но в тридцать четвертом году у нас у обоих появилось желание служить в армии, в кавалерии. Мы любили лошадей и мечтали стать кавалеристами. Не могу точно сказать, что послужило основанием зародившейся мечте быть красными командирами. Это, видимо, результат активизировавшейся работы ОСОАВИАХИМА. Занятия по военной подготовке проводились часто. Григорий занимался тем делом, которое выпадало на долю рядового колхозника. Он управлялся с лошадью и плугом, косил траву и заготовлял дрова, делал все, что положено членам полеводческой бригады. Он как-то радостно трудился на колхозных полях и пожнях. В деревне было правило: бери косу, покажи, какой ты есть работник. Девушки ценили ребят по их работе. Вместе с отцом и старшими братьями выходили мальчишки на пожни и неудобья. В руках такие же, как у отцов, косы. Только черенки покороче, по росту. Мы старались, потели, хотя и не угонялись за отцом, похвалу имели. Ворошили душистое сено, возили сено к стогам. В шестнадцать лет я стал бригадиром животноводов, в таком же возрасте бригадиром животноводов стал и Григорий, сменивший меня в декабре 1934 года, когда я поехал учиться в ВКСХШ. До этого, с назначением меня бригадиром животноводов, я попросил, чтобы учетчиком молока и кормов поставили Григория Ивановича, комсомольца, хорошо работающего в полеводческой бригаде, грамотного и с хорошим почерком. Более года мы вместе с ним работали на МТФ. За все время не было ни одного расхождения в учете выработанных трудодней каждым членом бригады, в количестве принятого и сданного на маслозавод молока; не было недоразумений с кормами для коров; корма он развешивал по нормам, установленным зоотехником. Воровства молока и кормов на ферме не было. Это объяснялось там, что у нас на севере вор презирался всю жизнь, и к тому же вступил в силу очень жесткий закон по охране социалистической собственности. Наша совместная работа на МТФ описана еще в главе "Они были первыми". Вспоминаются наши обязательства, которые мы давали на комсомольских собраниях: быть образцом в поведении, в труде, в семье и среди колхозников. Это записывалось в постановлении собрания. На колхозных собраниях и, особенно на сборах бригады позорили лодырей и прогульщиков, считая, что это - пятно на всю бригаду. Дисциплина была хорошая. На работу на ферму приходили в назначенное время, хотя и приходилось утром вставать в четвертом часу. Колхозники и колхозницы трудились великолепно, и мы, молодые люди, подражали им. Работа в поле, на ферме, на пожнях как будто прибавляет лет. За одно лишь лето в чем-то равняет нас со взрослыми людьми. Ночью во сне продолжался рабочий день, видимо, большое стремление к труду было у нас. Правда, в зимние сны, часто виделось лето. Вообще-то, очень интересно зимнее видение лета.
В 1935-1937 годах мы редко встречались и лишь иногда в письмах обменивались успехами в работе и учебе. Последняя наша встреча была летом 1938 года, когда я, получив десятидневный отпуск в Харьковском артиллерийском училище, курсантом которого был зачислен, приехал в Ичково к матери. Григорий обратился ко мне за рекомендацией для поступления в военное училище. Я с радостью дал её. Рекомендацию заверили в сельсовете и отослали в военкомат вместе с заявлением об учебе в училище. Эти несколько незабываемых дней провели мы вместе, не предчувствуя даже того, что это наша последняя дружеская встреча. Сбылась у нас мечта детства: стать красными командирами - мы стали курсантами военных училищ. Сильна память о родном месте, крепко держится она в человеке. Нелегко жить, нe заглядывая в родное гнездо. Сразу же после войны весной 1946 года приехал я в Ичково навестить тяжелобольную мать. Зашел в клуб колхоза, где пела гармошка до боли знакомые, берущие за сердце песни тридцатых годов и годов Великой Отечественной войны. Вспомнился великий период первых пятилеток и войны в полном объеме, вспомнил и друга Григория Ивановича, офицера, не вернувшегося с полей сражений. В 1953 году вновь побывал на земле отцов и дедов в Ичкове - в родной деревне. Какое-то приятное тепло разлилось в моей душе. Повидал жену друга Григория Ивановича - Зинаиду Андреевну и их сына Володю, которому отец завещал будущее нашей Родины. Через 45 лет после первого колхозного собрания, в 1975 году, приехал в Ичково проводить в последний путь родного брата Якова Григорьевича. Оборвалась прочная родная связь с Ичковом. Нет там больше близких по крови. Босыми ногами ступал я по той деревенской дороге, по которой в детстве и юности мы с Гришей ходили ежедневно. Ощущалось соприкосновение с родным, дорогим сердцу и очень близким для меня, но в то же время чувствовалось и коренное изменение во всем. Появлялась непонятная жалость к утраченному, хотя и, понятно, невозвратимому. Шел я по дороге, где не было следов лошади, а колея от автомобилей да выбоины от гусениц тракторов. На крышах домов уже не деревянная - тесовая, а шиферная кровля и не коньки, а телевизионные антенны. В каждом доме, в каждой комнате электрическое освещение, а на кухне газовые плиты, хотя русская печь как монумент стоит на прежнем месте. Встречались уже старенькие комсомолки тридцатых годов, по три нормы выполнявшие в годы войны, работая даже за "палочки", не павшие духом. Их светящиеся глаза были полны оптимизма, хотя большинство из них - вдовы-солдатки, как себя они называли. Работают на ферме молодые девчата, точно такие же и, вроде, другие, какими помнятся из далекого прошлого. Одно схоже: радостные, веселые, работающие с песней. Война отобрала у меня сильного, смелого, жизнелюбивого друга детства, который смог бы многое сделать в жизни. Мне всю долгую жизнь не хватало друга - хорошего и надежного, каким был Григорий. Мы с ним были мечтателями, жили вольно, раскованно, не лукавили и не виляли. Григорий Иванович любил Родину. В бою он смело шел на дула пулеметов и жерла орудий бронированных чудовищ и пал смертью героя среди первых на Смоленской земле. Мы помним о нем. Вырос сын и растет внук, обеспечивая Григорию бессмертие. Помню и я о тебе, мой хороший друг, и ту нашу клятву: не дрогнуть в бою. Я нашей клятвы не нарушил. На снимке и в сводке Совинформбюро сказано, как я воевал в первые месяцы Великой Отечественной войны. Может быть Григорий видел этот снимок в газете и читал (слышал) сводку Совинформбюро от 28 августа 1941 года. Григорий Иванович пал смертью храбрых за то, чтобы будущее детей было прекрасным, за социализм, за Родину. Помните наказ для детей: "Поклонись до земли своей матери И отцу до земли поклонись, Мы пред ними в долгу неоплаченном. Помни свято об этом всю жизнь!" М.Рябинина
ПУТИК
Шёл август 1930 года. Григорий Федорович пришел от фельдшера из Копачева мрачный. Повесил фуражку на гвоздь около умывальника, одернул пиджак и сел на лавку в красном углу у стола, положил руки на стол и стал пристально смотреть на печь, у которой работала мать. Так длилось несколько минут. Затем Анна Федоровна подошла к отцу и, глядя в упор в его глаза, спросила: "Что сказал фельдшер?". Плохие дела, мать, надо в больницу, делать операцию желудка. В Холмогорах такой операции не делают, а в Архангельскую кто меня положит? Вот и думаю, как быть, а тут еще боли в желудке стали нестерпимыми, никакие порошки не помогают". "Похудел ты, Григорий, уж больно сильно и как-то сразу. Одни глаза сверкают. Ты на меня не обижайся, я попросила "древнюю" чтобы она посмотрела тебя и травы какой-либо дала для лечения. Накопленные вековым опытом северного народа лечебные средства, а их хорошо знала "древняя", - избавляли многих охотников и хлебопашцев не только от простуды, а даже от гибельной гангрены. Лечили обмороженные руки и ноги, помогали настоями и отварами людям, страдающим болью в животе. Ведь она десятки людей вылечила. Хотя ей и девяносто лет, а еще при хорошей памяти и дело знает, но придет только после твоего согласия. Эти слова, видимо, были неожиданными для отца, так как он не верил в различные знахарские лечения и, откашлявшись, сказал: делать нечего, может и поможет, зови только сюда, а к ней не пойду - стыдно. Ну вот и хорошо, вечером её позову, а насчет больницы-то я думаю так. Ты в Ленинграде в одной мастерской проработал более сорока лет. Неужели не помогут положить тебя в больницу. Вот не знаю, как ты туда доедешь, или мне сначала съездить, выхлопотать место и тебя туда отвезти. Продадим телку, и поедешь лечиться в этом же месяце". Обсудив еще какие-то дела, решили, что в Ленинград сначала поедет Анна Федоровна, а когда получат место в больнице, подаст телеграмму и поедет туда отец. За направлением и необходимыми бумагами пошлют меня в Копачево завтра же. Вечером пришла "древняя". Это была высокая, когда-то очень стройная женщина, с густыми седыми волосами, очень "живыми", блестящими "колючими", голубыми глазами, темными бровями и ровным (без горбинки) красивым носом. Она смотрела строго, не улыбалась и держалась независимо и с достоинством. В народе говорили, что мать ее была из местных (чудь), отец - новгородец, вот и получилась такая красавица. Насколько это была правда, не знаю. Муж у нее погиб в Севастополе в Крымскую войну, а сын - в русско-японскую, так вот одна и живет в курной избе с окном, в котором вместо стекол все еще слюда. Нас, ребят, она любила. У ее дома была скамеечка, на которой мы с другом Гришей иногда садились отдохнуть. Она выходила к нам, садилась рядом и все расспрашивала про колхоз, про новые порядки, про избу-читальню и про трудодни. Иногда просила Гришу поиграть на гармошке старинные мелодии. Колхозу было уже пять месяцев, закончилась посевная, начались сенокос и выборочная жатва ячменя и овса. Все это очень ее интересовало, и она только и говорила: "Вот хорошо-то, вот хорошо-то". Мы же не особенно реагировали на ее слова и иногда даже шутили над ней. С отцом сначала она долго беседовала о болезни: когда и почему заболел. Он все ей рассказывал подробно, и вдруг она четко ему заявила: "А ведь от удара в желудок у тебя болезнь-то. Ты об этом фершалу рассказывал или нет?". А дело было так. В эту зиму с двадцать девятого на тридцатый год отец работал на лесозаготовках, рубил и возил лес. И надо же было, назначили его принимать лес от возчиков у запани. Он добросовестно выполнял эту обязанность. Один из административно высланных возил лес и не выполнял норму, а потребовал, чтобы отец отметил выполнение нормы. Обещал потом довезти лес. Григорий Федорович не согласился, и произошла беда, этот взбешенный лесоруб ткнул в область желудка слягой, которой скатывал с саней бревна, обругав отца за его преданность Советской власти. Свидетелей не было. На первых порах боль была сильная, потом как-то все утихло, а через несколько недель с каждым днем боль в желудке усиливалась. Древняя осмотрела живот, прощупала, покачала головой и четко заявила, что ничем помочь не может, надо в больницу. Но вот, чтобы боли были поменьше, покушать смог, дам я тебе березовый гриб. Заваришь его и пей. Он не вылечит, а облегчит боль, а там уж пусть врачи разбираются. Гриба у меня немного, а ты сходит в лес или Саньку пошли, пусть срубит гриб, только на живой березе. Рассказав как готовить напиток, она собралась идти домой и позвала Анну Федоровну проводить её. Выйдя на улицу, она остановилась, посмотрела прямо в лицо матери и ясно сказала: "Не жилец он, не вылечишь эту болезнь. Жрёт она его очень сильно и по всему животу пошла. Разве, что вырежут, да и то, много надо вырезать-то. Чай с гриба пусть пьет, все легче будет да и поспит немного". Так был вынесен приговор моему отцу, который все слова древней слышал, сидя у открытого окна. Чай с берёзового гриба действительно облегчил страдания отца. И он объявил мне, что пойдем вместе с ним по путику, который достался ему от деда и передаст мне его, как наследнику. На следующий день отец сказал, что завтра пойдем по путику, затем вдоль Чернозёрки на Хепальское на две ночи и придём поздно вечером в понедельник. Пойдем вдвоем, что означало, чтобы я дружков не приглашал на рыбалку. Я встретил это с большой радостью. Очень я любил ходить с отцом в лес и на рыбалку. Мать только сказала, а как же ты будешь так долго без молока, ведь кроме молока, ты почти ничего не ешь. Уху будем варить да березовый чай пить, если гриб найдем. Мне надо было накопать дождевых червей, приготовить две снасти, уложить в корзину, найти лапти для себя и для отца, так как на рыбалку ходили в лаптях: легче, нога всегда ''суха" (вода зайдет и выйдет) и обувь сберегается; положил котелок, чайник, ложки, кружки и все необходимое на эти три дня. Отец брал спички и огниво, а мать готовила и укладывала все продукты в кузов и несла за это ответственность. Если что-либо я забывал положить в корзину или мать в кузов, то нам от отца обоим доставалось, так как он всегда интересовался, что положено в кузов, что в корзину, и этим он проверял наши старания. Мать часто ругала отца за то, что он все поручает мне, а он улыбался и говорил: "Пусть привыкает к самостоятельности - мужик ведь». На следующий день еще было темно, а мама ужа хлопотала около печки и как бы невзначай разбудила меня, и я, еще сонный, сознавая радость предстоящего похода, стал быстро собираться. Отец что-то делал во дворе, увидев меня радостно сказал: "Ну, вот и хорошо, что на утренней зорьке пойдем, день, видимо, будет погожий". В лес мы пошли по хорошо протоптанной тропе, а затем свернули на еле заметную тропинку, шедшую по густому ельнику, которая вывела к сухому болоту, называвшемуся "Варварино болото", длиною около четырех, а шириною до двух километров. Пройдя намного по сухому болоту, мы подошли к зелёному острову, но как оказалось, лес был по окраинам поляны, значительно больше футбольного поля, на которой трава была скошена и сено сложено в стожок на её восточной окраине. Тропа не пересекала поляну, а шла как бы вокруг, за деревьями и кустарниками так, что с поляны не видно идущего человека. По этой тропе мы подошли к стогу сена, рядом с которым оказался старый шалаш со скамейкой внутри. Мы сели на скамейку. Солнце возвышалось над лесом, освещая эту чудесную поляну, окаймленную березами, ельником и густым кустарником. Туман начал подниматься, редеть, щебетали какие-то птицы в этой своеобразной тишина. Отец пристально осматривал поляну и лес вокруг нее. Лицо его было задумчиво, на глазах, как мне казалось, блестели слезы. Он повернулся ко мне и неожиданно для меня спросил: «А чему научил тебя Дмитрий Евдокимович за год работы в мастерской?». Я умело лудил медные кастрюли и небольшие котлы, самовар могу полудить, только трубу припаивал плохо - много олова расходовал. Дырки в кастрюлях запаять могу, ручку какую сделать, это просто, примус могу починить. Замки ремонтировал только большие, внутренние. Краны водопроводные ремонтировал, но мало и нe совсем хорошо получалось, дядя Митя переделывал. Нарезать трубы водопроводные не разрешали, но я всё это видал, и если бы разрешили, сделал бы нарезку. "Все это хорошо, мал ты еще", - вздохнув, сказал отец, - «Жаль, что я тебя кровельному делу не смогу научить, теперь видимо, уж не смогу. Да и в деревне вряд ли с такой специальностью проживешь. Ну, а как учился в ШКМ?».
|